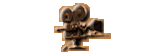ТВОЙ ОРЁЛ ЕЩЁ НЕ УМЕЕТ ЛЕТАТЬ
- Подробности
- Создано: 18.01.2021 19:29
- Просмотров: 4413

Для включения в очередной проект иногда нужно, чтобы другие, уже крутящиеся, проекты притормозили, пропуская «новенького» вперёд. При обычном течении жизни этому мешает инерция, но нынешние коронавирусные обстоятельства перемешали карты, и работа над своими книжками, крайне важная для меня, вдруг вытеснилась редактированием переводных художественных произведений. Ключевые слова тут ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: в отличие от научных контентов, в них возможна свободная вышивка по сюжетной канве – цимус такой работы.
И авторы оказались ко времени, просто попали в десятку. Писательница Ма Цзиньлянь представляет жизнь одной из провинций в Китае, населённой дунганами. Эта народность на протяжении многих веков сохраняет только ей присущий уклад, и роман «Цветение ириса» каждой своей главой открывается как шкатулка с двойным–тройным дном. Обыденная жизнь персонажей, живущих тяжёлым крестьянским трудом, неожиданно обнаруживает поэтическую подкладку, предметы обихода открывают свою волшебную сущность, стихии говорят на понятном для людей языке. Даже время послушно сгущается по желанию главной героини – хрупкой женщины по имени Ирис.
Думаю, она и свела меня с героями следующей книги, над которой выпало поработать, – «Молитвой на ветру» тибетского автора Норбу Церинга. Строго говоря, повесть с таким названием уже значилась за одним московским редактором и месяца полтора была в «разработке», но, как говорят в таких случаях, вмешались обстоятельства непреодолимой силы – и стрелка перевелась на Иркутск. Когда текст в формате подстрочника попал в мой электронный почтовый ящик, он казался обледенелым снежным комом: герои отправились к одной из вершин в Гималаях, чтобы спуститься с другой её стороны (и как бы в другую жизнь). Каждый был на пределе сил, один мужчина уже умер, и вдова предложила оставить его тело орлам:
— В ту деревню, что внизу, с мертвецами не пускают: они верят, что если кошка оближет покойника, он оживёт и навлечёт много бед на местных.
Все посмотрели на Сиви Ринпоче, наставника одного крупного монастыря, и он ответил, прислушавшись к ветру:
— Думаю, они нас примут.
Тибетских писателей только начинают издавать на русском. И многие авторы представляют Тибет, в который уже невозможно приехать, потому что его давно нет. Так что это ещё и путешествие во времени. Повесть Норбу Церинга «Молитва на ветру» погружает в полную драматизма пору антикитайского восстания 1959 года и Культурной революции. А рассказ от лица монаха, ученика Живого Будды Сиви Ринпоче, позволяет приподнять завесу над тем, что мы называем «буддийскими тайнами».

Норбу Церинг не застал летающих лам, но ощущение лёгкого полёта охватывает, когда читаешь его повесть, – и каждый раз неожиданно, заставая врасплох. Только что рисовалась бытовая картинка с ишаком, опрокинувшим на хозяина коровяк, – и тут же: «Когда мы вышли из чайханы, Ньима Сангжу встал на мостик перед входом, раскинул руки – и оказался внутри светящегося столба. Я понял, что здесь его место Силы. Он рассмеялся, сошёл с мостика – и тот сразу исчез для глаз».
Ламы в «Молитве на ветру» так же мало похожи друг на друга, как и обычные люди. Тайное знание, добываемое огромным трудом и нередко ценой унижения, ожесточает их, и чем глубже это знание, тем сильнее, увы, и степень ожесточения. Постигший законы космического порядка нередко выставляет себя деспотичным, грубым и мелочно меркантильным – но со временем выясняется, что лама лишь испытывал вас. Вы надеялись, что довольно привезти ему золота-серебра-драгоценных камней-породистых кобылиц, и он передаст вам Знание. А оно не заходит! И лама опять смеётся над вами:
— Даже в Тибете не каждый способен постичь искусство мантры и искусство укрощения. Да, правила и ритуалы необходимы, как нужна и постоянная практика, но иной бедняк, не знающий грамоты, импульсивно, по наитию схватывает необходимое для благополучия близких – а большего ему и не нужно. Гораздо сложнее с людьми состоятельными, часто не понимающими своих тайных желаний. Я должен знать о них больше, чем ведомо им самим. Я должен каждому отмерять глубину его погружения – чтобы не навредить. Хотя мало кто достигает отметки, и это опять же особенность людей со средствами: они думают, что всё могут.
Ламам тоже кажется иногда, что они могут всё, – и, как и обыкновенных людей, их настигает разочарование. Ранним утром рыжий конь бьёт копытом у двери, всадник в белом тибетском костюме ступает на порог — и тревожные вести летают по комнате, но живое ещё остаётся живым. И лама Ньянга Йонгдэнцзе садится на вороного коня и летит вслед за рыжим конём, не отставая. И три дня и три ночи ниточка жизни друга трепещет в его руках, но веки смежаются на мгновение – и эта жизнь ускользает. Облака на склоне горы, только что розовевшие, гаснут, чернеют, и седеющая голова ламы падает на грудь:
— Самый близкий мне человек теперь за чертой бытия! Я не смог спасти друга, потому что отяжелела моя душа: смерть в ней перевесила жизнь. И нет мне спасения! От белых зубов молодости я владею заклинанием, обузданием, выпадением града — и не знаю, скольких убил мой дар. Как печальна жизнь, когда она лишь накопление грехов!

Но ламам не дОлжно слишком долго печалиться, вот и Ньянга Йонгдэнцзе берёт свой волшебный колокольчик, встряхивает ритуальный барабан дамару – и в далёком селении за высокой горой отзываются:
За горами, за холмами
Спрятано моё сердце;
Я такое видел, что в нём
Больше нет беспокойства.
Звук ритуального колокольчика и барабана распечатывает и память главного героя повести Джинмея Вангзы – и он видит монастырь Сэра, каким тот предстал перед ним много лет назад: крыша из белого агата, синий камень дорожек, уводящих в сад Священных писаний и храм Воспевания. А вот и келья Живого Будды Сиви Ринпоче. Он снимает с запястья чётки, возлагает ребёнку на голову – и для мальчика исчезают все окружающие предметы. На мгновение появляются ножницы, и вместе с прядью волос срезаются прежние печали и радости.
— Отныне твоё имя Джинмей Вангза!
Когда постриженного в монахи облачают в рясу, его мама склоняет голову, приседает, и смутная догадка, что даже перед родителями он поставлен в новое положение, настораживает и пугает восьмилетнего неофита. Он предчувствует неизбежную отчуждённость близких — и понимает: со временем она будет лишь возрастать.
Монастырская жизнь при всей её внешней строгости и аскезе богата глубиной ощущений. Не дарованных постригом, а нажитых и начувствованных. Хорошо оказаться здесь в семь—восемь лет, когда благодать осознанна и принимается ещё чистой душой. У выросших в монастыре и молитвы особенно глубоки, и медитации с возвратным эффектом – когда через час, через день «догоняет» новое озарение.
Но есть монахи — и монахи. Довольно долгое время отдавать одного из детей в монастырь было для тибетцев своеобразной повинностью. Кто-то просто исполнял её, кто-то избавлялся от лишнего рта, а кто-то связывал с постригом получение образования (светских школ в Тибете до 1960-х практически не было, в то же время монастырь Сэра считался своеобразным университетом). Присоединение Тибета к Китаю и, в особенности, Культурная революция резко размежевали монашеское братство: под снятыми рясами обнаружились как верные буддисты, так и их отчаянные гонители. «Неверные» на волне перемен поднимались, делали карьеру, но неизбежно становились жертвами собственного ожесточения. «Верные» не утратили ни привычных ценностей, ни особенности мироощущения — только это не сделало их счастливыми. Как говорила Джинмею Вангзе его жена, «без сострадания нет буддизма, но ты сострадаешь чужим за счёт близких, ты не расстригся на самом деле, и тебе не стоило заводить семью!».
Герои повести «Молитва на ветру» делают статуэтки Будд из праха дорогих им людей, и окружающие не усматривают в этом кощунства. В не столь отдалённых ещё 1960-х ламы пользовались ритуальными барабанами, сделанными из половинок человеческих черепов, мужского и женского. И тогда по всему Тибету были разбросаны платформы Небесного погребения, и рогьяпы (могильщики) со спокойной сосредоточенностью исполняли обряд – скармливали орлам умершего, включая и его истолчённые кости, смешанные с обжаренной ячменной мукой.
После присоединения Тибета к Китаю на обряд Небесного погребения был наложен запрет, но продержался он недолго. Чёрные каменные платформы вернулись – как место погребения и как место, где сходятся конец и начало и открывается дорога душе, жаждущей нового воплощения. Вот как видит это главный герой повести Джинмей Вангза:
«Чёрная платформа обретает вдруг зелёный оттенок, а мёртвое тело кажется цветущим лотосом. Я без страха уже позволяю ножу первый надрез и высоким голосом запеваю:
— Ом мани падме хум… Ом мани падме хум… Ом мани падме хум… Ом мани падме хум…
Тело раскрывается как цветок, и белые тычинки чередуются с красными… Стервятники уже совсем низко и держат форму веера. Я бросаю им красно-белые лепестки. А когда отхожу от платформы, они усаживаются по периметру – как на званый ужин.
— Жизнь всегда танцует со смертью, – повторяю я раз за разом, – но она лишь начало реинкарнации, смерть – начало жизни, как жизнь – начало смерти!»
И совсем уже напоследок — любимый абзац:
«Ты читал «Тибетскую "Книгу мертвых"»? Да? Твоя страница там едва различима. Твой орёл ещё не умеет летать, и далёк ещё час, когда он оторвётся от стаи и появится в небе над твоей головой. Когда в музыке его крыльев распознаешь ты свой фагот, а я свою флейту».
Валентина Рекунова
СТИЛЬ ИЗЛОЖЕНИЯ В ВАШЕМ ЖУРНАЛЕ ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ И ДОСТУПНЫЙ, И ЭТО ПОДКУПАЕТ, ТАК ЖЕ КАК И ВАША АВТОРСКАЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ. А ВОТ ИЛЛЮСТРАЦИЙ МНОГОВАТО, Я ХОТЕЛ БЫ ПОЛУЧАТЬ ПОБОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ ЗНАКОВЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ Я ЗНАЮ. ВЕДЬ ИНОЙ РАЗ НА ОСНОВЕ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ Я ВНОШУ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КОРРЕКТИВЫ В СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. НО, КАК ГОВОРИТСЯ, НА ВКУС И ЦВЕТ ТОВАРИЩА НЕТ. КОМУ-ТО ИНТЕРЕСНО И КАРТИНКИ РАЗГЛЯДЫВАТЬ.
Валерий Лукин, уполномоченный по правам человека в Иркутской области
Обсуждения
-
Повёрнутость на левом…
Понравилось. автор молодец! И очевидно, что мы сейчас играемся не друг с другом, а мощной армией ... -
Время думать о государственной идеологии России
Давно пора. Абсолютно согласен с автором. Мы не являемся мононациональны м государством, соответственно ... -
Ох, уж это 31-е!
Между прочим позавчера был вообще день блудниц. И тоже международный! Почему же вы его не упоминули? -
Ну, начинается, что ли?
Ну наконец-то! А то я уже начал сомневаться, что коммунисты вообще существуют)) Зюганов ещё чего ... -
Ну, начинается, что ли?
Согласен полностью с позицией коммунистов.