
Городские звёзды... Или просто – герои?
- Подробности
- Создано: 26.10.2022 15:45
- Просмотров: 9566

- Ну и что? – скажет мне иной бывший или настоящий руководитель иркутской телекомпании. И может, даже кучеряво сплюнет. Дескать, все телекомпании открывали своих звёзд и нет у телекомпании «Город» никакого такого морального (и аморального тоже) права говорить, что вот только она дала возможность кому-то по-настоящему засветить, заискрить, выплеснуться.
Но я, в общем, и не собирался говорить, что «только». Смайл. Я помню, как здорово выглядели в кадре в АИСТе те, кто пришёл туда с Иркутского областного… радио. Валера Почекунин прежде всего.
Тот же АИСТ открыл другого великолепного ведущего – Володю Голубевского, который вообще-то на областном телевидении был сначала просто техническим работником, а потом видеооператором. Именно видео-, а не теле-, потому что специализировался на съёмках первой на ИГТРК видеокамерой, «Хитачи», кажется, это была. Но как ведущий программы новостей «Сей Час» он в начале 90-х был, на мой взгляд, лучшим. Лучшим!
И я помню, насколько ярким открытием в середине 90-х для многих иркутян, да и для нас, руководителей ИГТРК (а я возглавлял тогда главную в компании, общественно-политическую редакцию), стала Оксана Галькевич в эфире «АС Байкал ТВ». Полновесными звездами были Рита Панфилова, Лена Нупрейчик, Саня Рябов... Да всех звёзд того времени на региональном телевизионном небосклоне не хватит времени упомянуть!
Однако телекомпания «Город» в этом смысле всё равно, по моему убеждению, сделала чуточку больше – с учётом, конечно, сравнительной краткости своего существования. С учётом объективных возможностей. Ведь она и появилась-то уже тогда, когда внимание телезрителей было разобрано: в Иркутске работало 6 телекомпаний и телестудий. Шесть! Поди тут прыгни выше головы и перетяни одеяло на себя! Но мы перетянули значительную часть этого одеяла.
За счёт чего? За счёт отмороженности, я бы сказал. Смайл ещё раз. За счёт огромного желания. И нашему творческому дуэту с Александром Медведевым, и главному редактору Юле Язовской, и руководителю спецпроектов, а потом и главреду Лене Поддубной, и Светлане Переломовой, возглавившей после меня редакцию «Политбюро», да практически всем, кто пришёл с других телеканалов, было что доказывать себе и остальному миру. И главное – за душой было то самое что, которое можно было привести в качестве доказательства. Знание и умение. Идеи и проекты. Небанальное видение окружающего мира.
А вдобавок, безусловно, всем нам повезло! Повезло найти харизматичных, умных, работоспособных иркутян, которым мы помогли стать не просто своими в телевизионной журналистике, а в определённом смысле заявить о себе: либо в качестве ролевых экспертов (я не помню использования подобного приёма в общественно-политических передачах другими иркутскими телекомпаниями и считаю это авторским ноу-хау «Города»), либо в качестве ведущих. Одним из наиболее популярных «людей в кадре» стал Сергей Шмидт. Впрочем, я, кажется, слишком разговорился. Передаю слово другим…
Андрей Фомин


Всё было классно! Хотя и непросто!
В телекомпанию «Город» я пришёл вместе с Андреем Фоминым. В феврале того, 2002, года корреспондентский пункт программы «Вести» РТР, где мы работали с ним, сократили. Андрея пригласили сначала в Ангарск помочь в организации вещания новой телекомпании (руководитель Ангарского управления строительства Виктор Середкин тогда прикупил дециметровую частоту), а потом Юрий Якубовский вернул его в Иркутск – видимо, нашёл весомые аргументы – а тот в свою очередь убедил меня продолжить с ним сотрудничество. Впрочем, особых усилий ему не понадобилось. Знакомы мы были ещё с областного телевидения, а потом больше 3 лет отработали бок о бок в ВГТРК. И у нас многое получалось.
Название своё телекомпания «Город» приобрела позже, а в первые месяцы работала под прежним названием «СТВ»: наклейка с этими буквами долго ещё пребывала на видоискателе моей камеры. Предыдущий коллектив (который руководство решило в основном сохранить) воспринял наш приход отрицательно, так как у молодёжи уже сложился свой мирок, свои герои, свои представления о прекрасном. Это обычное дело для небольших провинциальных студий без особых задач и амбиций. А тут вдруг на ключевых постах появились человек восемь опытных телевизионщиков, прошедших огонь и воду, и начали учить их работать профессионально, положив конец их, как говорят в таких случаях, детской вольнице.
Было трудно, даже скрывать не стану. Прежде всего потому, что всё приходилось делать вдвоём. Задумок было много и все они так или иначе предполагали необычный формат, необычные приёмы, необычную логистику. Снимать и монтировать надо было не так, как простые новости. Всё было сложнее, а… Нас было только двое. Владельцы канала не понимали, зачем нам дополнительный корреспондент, зачем свой выделенный монтажёр и монтажный пост, автомобиль и так далее. Не понимал этого ни первый директор, ни вскоре сменивший его второй – оба они до этого работали на телевидении, но один был простым журналистом, а второй монтажёром новостей на «АИСТе». Кстати, неплохим монтажёром, говорят, но – всего лишь монтажёром! Привыкшим к логистике новостей, не более того.
Потом, правда, всё потихоньку стало улучшаться. Владельцы канала дали нам полную творческую свободу. Улучшилась отчасти и организация производства, хотя на съёмки мы по-прежнему ездили в основном на личном автомобиле Фомина или иногда на моём. Но с творческой стороны, повторю, всё было здорово. И не только у нашей редакции. Если на канал вообще приходил кто-то с какой-то интересной идеей, то ему обычно давали возможность её реализовать. Именно поэтому у нас в телекомпании все пять лет её существования выходило очень много разноплановых, порой даже сумасшедших в некотором смысле сюжетов и передач.
Наш тандем с Андреем стал удивлять коллег сразу. Дело в том, что работу мы всегда начинали с детального обсуждения будущих программ: Андрей предлагал идею, я выдвигал встречную мысль об операторском и иногда режиссёрском решении. Всё, что рождалось в процессе обсуждения, – тут же записывали, расписывали, отмечали. И только потом реализовывали, снимали, монтировали, озвучивали…
Евгений Старновский, который как раз и был первым директором телекомпании, как-то поприсутствовал на нашем планировании и реально обалдел: «А вы всегда так делаете? У нас на «АИСТе» никто так никогда не делал!». Пришлось сказать ему всё, что мы думали об «АИСТе» того периода времени. А думали не очень хорошо. Я перед этим отработал там два месяца, и большего бардака в жизни не видал.
Но мы иначе не могли. Мало того что хотели сделать что-то необычное, это необычное было с политическим контентом, а это накладывало особую ответственность. Плюс передач было много, очень много. Так хотели владельцы телекомпании, и мы пахали. Пахали не по-детски, но… было очень интересно. Мы работали с драйвом, поймали своеобразный кураж и понимали, что зритель оценил то, что мы делаем.
Постепенно Андрей стал привлекать молодых журналистов, и редакция разрослась. Это был такой своеобразный имиджевый проект «редакция политических программ». Привлекли Сергея Шмидта – он приобрёл у нас свой первый телевизионный опыт – и ещё некоторых интересных личностей. В гостях у нас в студии бывали и Геннадий Зюганов, и Александр Карелин, и многие знаменитые депутаты, чиновники, политологи федерального уровня, которые до этого появлялись разве что на Первом канале. Они приезжали в Иркутск по своим делам – на то же объединение Иркутской области с Усть-Ордынским бурятским автономным округом и… выбирали для интервью нас. Некоторые, правда, просили перед этим показать им наши передачи. Дескать, хочу понять, что это за уровень. Многие после эфира удивлялись, как это в Иркутске могут так лихо, так круто работать. И отказавшихся, между прочим, не было. Не помню я, чтобы кто-то проигнорировал наше приглашение стать экспертом в передаче или дать интервью.
Но, конечно, бывало всякое. Приходилось «вытрясать» из руководства новое оборудование – какой-нибудь, допустим, комплект освещения. Или что-то ещё такое же нужное для того, чтобы хорошо снять. Одно время мне «свернул всю кровь» старший на тот момент оператор Михаил Логвиненко, который был против всего и вся просто из вредности, хотя с профессиональной точки зрения многого не знал и не умел. И помню ещё, что на первых порах народ начал увольняться по девять человек в день, поняв, что работать придётся по графику, а не так, как их душенька пожелает. Но потом всё стабилизировалось, и работа потекла.
В результате несколько лет телекомпания «Город» работала как мощный организм, в котором каждый «знал свой маневр» и каждый был нацелен на результат. Программа «За окном». «НЧС» (Новости Чрезвычайных Ситуаций). «Простые мечты». «Иркутское Времечко». Да много было удачных проектов! На более интересной и свободной телекомпании при всём моём немалом телевизионном опыте, признаюсь, мне работать не довелось. А коллектив… Коллектив в итоге подобрался очень интересный и дружный. В больших коллективах разногласий между отдельными людьми не избежишь, тем более в коллективах, где большинство – молодые люди. Там и любовь-морковь, и вообще кровь кипит. Но творчество побеждало. Да что там говорить, если девчонки из рекламного агентства участвовали в обсуждении тем! Водители – водители! – время от времени подходили к кому-то из авторов, корреспондентов и предлагали темы, рассказывали о каких-то неочевидных событиях, делились своей, как модно сейчас говорить, инсайдерской информацией о том, о сём. И все с удовольствием участвовали в постановочных сценах, которые наша телекомпания довольно активно использовала при съёмках сюжетов и передач.
Как-то помню, мы провели шутливый телевизионный эксперимент, когда вывезли за город ведущую «За окном» Машу Ниазашвили и корреспондента «Политбюро» Лёшку Шапенкова и попросили их проголосовать на дороге, чтобы водители подвезли до города. Мы хотели вот так выяснить и наглядно показать, на кого скорее откликнутся водители. Перед девушкой, а Мария очень красивая девушка, почему-то остановилось гораздо больше водителей, чем на Алексея, и мы до сих пор гадаем – почему?!
Разумеется, и ляпы в нашей телекомпании допускали – как молодёжь будет без ляпов?! Но это так… Забавные мелочи. Не они определяли качество нашей общей работы. А определяли это качество в том числе награды на конкурсах: общероссийских и региональных. В частности, наши передачи (а значит, и мой личный вклад, моё умение) высоко котировались, побеждали или занимали высокие места на независимом конкурсе профессионального мастерства «Профи».
Искренне хочу поблагодарить всех, с кем довелось прожить эти пять лет в телекомпании «Город», кто так или иначе вошёл в мою жизнь – за совместную работу. Спасибо, всё было классно!
Александр Медведев


В кулуарах «Города»
Все девяностые, да и в самом начале нулевых у меня не было никаких отношений с иркутскими СМИ. Что называется, не складывалось. Попробую вспомнить все свои медийные достижения «переходной эпохи». Я опубликовал четыре текста про иркутских «поющих поэтов» (О. Медведев, Р. Гаврилин, Р. Бажин, К. Погодин) в газете «Шарманка», была такая «музыкальная» газета в середине девяностых. Выходил мой текст про легендарную «Сибскану» в глянцевом «Байкал-ленде», за который я получил самый большой гонорар в своей жизни (половину отправил на счет партии Эдуарда Лимонова, этого достаточно знать, чтобы понять моё отношение к тому, что творилось в России в девяностые). Когда умер Руслан Бажин, один из самых значимых друзей в моей жизни и герой публикации в «Шарманке», телекомпания «АИСТ» записала мои рассуждения о нём и его творчестве. Еще разок я побывал в ИГТРК (ездил туда, где телевышка) в программе ныне давно уехавшего из Иркутска Андрея Микулина, мы были там с Олесей, девочкой-школьницей из Лицея ИГУ, разговаривали про школу. Это всё.
А, нет! Вспомнил, был еще один почти курьёзный случай. Какой-то иркутский телеканал делал на улицах блиц-опрос, любят ли люди поэзию, могут ли прочитать на память какое-нибудь стихотворение. Я прочитал пару четверостиший из Бродского и с ними попал в иркутский телеэкран прямо с улицы.
За эти десять-двенадцать лет я один раз приятелю из медийной среды намекнул, что мог бы писать что-нибудь. Намёк не сработал, а как-либо навязывать себя, проситься-напрашиваться – не в моих правилах, поэтому я вообще перестал о чём-либо таком думать.
При этом среди моих знакомых принято считать, что моё попадание в иркутские СМИ в качестве колумниста или комментатора связано с тем, что заведенный мною в 2004 году «живой журнал» за пару лет приобрел некоторую известность, и медийщики обратили на меня внимание. Это, наверное, справедливо для отдельных СМИ, но ради одной только справедливости факта хочу зафиксировать, что мои комментарии в программе Андрея Фомина «В кулуарах», как и само предложение Андрея попробовать себя в качестве автора выпусков программы «Во-первых» вообще никак не связаны с ЖЖ (Андрей Фомин очень долгое время был равнодушен к ЖЖ).
Да и случилось моё сотрудничество с телекомпанией «Город» до того, как я стал, как тогда говорили, «блогером-тысячником». По словам Андрея, ему посоветовал брать у меня комментарии для программы его коллега Юрий Дорохов. Юра младше меня, учился на истфаке. Увы, не могу вспомнить, довелось ли мне у него преподавать, кажется, нет.
В мире очень многое, почти всё построено на таких рекомендациях по принципу «кто кого знает, кто к кому хорошо относится». Уже потом, когда я начал сотрудничать с «Городом», я тоже старался рекомендовать интересных людей телекомпании. Так один из ярчайших ведущих прямых эфиров «Города» Вадим Титов появился на «Городе» именно по моей рекомендации.
Врезался в память отличный эпизод как раз, по-моему, с первым моим комментарием для программы Андрея Фомина. Снимали на родном для меня историческом факультете. Оператор с камерой залез на стол. Началась съемка. И тут открылась дверь, появился заведующий кафедрой профессор Новиков, который, во-первых, был изумлен тем, что на столе стоит мужик с камерой, во-вторых, тем, что Андрей решительным жестом указал ему немедленно выйти вон (с кафедры, которую он возглавлял) и не мешать. Геннадий Никифорович Новиков – человек с одним из самых сложных характеров, что я вообще видел в жизни – предпочел не спорить с неведомыми ему наглыми телевизионщиками и (!) удалился.
А в конце лета 2005 года Андрей Фомин предложил мне попробовать себя в качестве ведущего программы «Во-первых» - пятиминутной, раз в неделю. Записали пилотный выпуск, внутренний, для самой компании. Меня ожидала большая учебная нагрузка в осеннем семестре того года, поэтому я сразу сказал Андрею, что не смогу осенью, но с 2006 года был бы готов приступить к полноценной работе. Тогда Андрей предложил мне записывать короткие ролики для программ «Во-первых», которые будет делать он. Андрей склонен к тому, чтобы вставлять в программы разных ролевых персонажей, он придумал мне роль мастера так называемого «ассоциативного прогнозирования», которая очень мне понравилась. Я снимался в кресле-качалке, на открытом воздухе (даже в морозы), в совершенно «остапбендеровском» шарфе вокруг шеи, который без дела валялся у меня дома.
Идея была в следующем. Программа представляла собой реакцию на какое-то свежее событие, а я делился историческими ассоциациями с намеком на то, что дальнейшее течение событий может повторить развитие аналогичных событий из прошлого. Не видел какие-либо аналоги этой идеи Фомина, рад, что поучаствовал в чем-то уникальном, в дальнейшем рекомендовав на эту роль своего старого товарища и коллегу Дмитрия Козлова.
Один из сеансов «ассоциативного прогнозирования» оказался бесспорной удачей. Когда стало ясно, что Говорин не получит из рук президента третьего губернаторского срока (выборы глав регионов Путин отменил в сентябре 2004 года, начиная с 2005 года начались фактические назначения губернаторов) и Андрей Фомин, разумеется, делал про это «Во-первых», я как «ассоциативный прогнозист» рассказал о первых секретарях иркутского обкома КПСС, которые, потеряв должность, отправлялись послами в Монголию. И когда в 2005 году стало известно, что Говорин тоже уезжает в Монголию послом, уже я делал выпуск «Во-первых» как ведущий (это, кстати, был мой первый выпуск в таком качестве) и… Не преминул вставить в программу себя в качестве «ассоциативного прогнозиста», благодаря чему возник смешной «постмодернистский» эффект, и – нагло заявить о полном методологическом торжестве метода ассоциативного прогнозирования над метом анализа сливов и утечек. До сих пор считаю тот свой «первый блин» самым удачным выпуском, в котором я был ведущим.
Весь 2006 год и половину 2007 года раз в неделю, по-моему, в четверг, я делал «Во-первых». В другие дни программу делали Светлана Переломова, Александр Комаров, Сергей Беспалов и Антон Баталин. Нередко, что называется «на замену», выходил сам мэтр – Андрей Фомин, ставший к тому времени директором компании. Негативных воспоминаний об этом периоде в моей жизни не осталось вообще (я сейчас категорически не лукавлю), поделюсь основными позитивными воспоминаниями-впечатлениями.
Фомин и его команда вполне приняли модель «четырех элементов», которую я до этого годами отрабатывал на разных своих внеуниверситетских публичных выступлениях. 1. Информация. 2. Анализ. 3. Ирония – для того, чтобы снизить возможно ложную серьезность анализа. 4. Легкое морализаторство – для того, чтобы нейтрализовать несерьезность иронии серьезностью, не переборщив с оной. Все свои программы я разыгрывал по этим четырем нотам. Пяти минут вполне хватало.
Я люблю и умею учиться, пусть это заявление удивит кого-то. Более того скажу, мне учебы у мэтров, которым я бы полностью доверял, не хватало в жизни, из этого происходят некоторые мои недостатки, поэтому я с невероятным удовольствием учился у команды «Города», не оспорив ни одной их рекомендации и ни одного их критического замечания (уверен, что все это подтвердят).
Меня принудили избавиться от преподавательской велеречивости, меня научили убивать в себе в зародыше лирические отступления, научили говорить без деепричастных оборотов и сложноподчиненных предложений (иначе зритель не уследит за течением твоей речи). И самое главное научили помнить, что никто из зрителей, в отличие от студентов, не обязан совершать какие-то усилия над собой, чтобы понять, что я хочу сказать.
«Помни о тёте Дуся», «Тётя Дуся этого не поймет», «Тут тётя Дуся тебя переключит», – такие напоминания я слышал на «Городе» постоянно. «Тётя Дуся» это важный образ, можно сказать, персонаж из внутреннего арго компании «Город». Это мирная обывательница в возрасте, которую надо суметь зацепить тем, что она видит/слышит на экране, избежав при этом сложности, которая оттолкнет тётю Дусю, возмущенную тем, что ведущие «образованность свою хочут показать», но при этом очень желательно и примитивности избежать, ибо тётя Дуся возмутится тем, что её держат за дуру.
Тут в качестве лирического отступления, невозможного в телеэфире, замечу, что СМИ без редакционной политики не бывает. Если кто-то из журналистов будет рассказывать вам о том, что СМИ, в котором он работает, «можно всё», можете смело делать вывод, что вас держат за идиота, которому можно навешать лапши на уши – лишний раз замечу, что тётя Дуся такого не прощает. Я противник цензуры, но я уважаю редакционную политику и считаю, что это правильная позиция. Тем более времена, когда всякий недовольный редакционной политикой, но желающий высказаться для публики, не может жаловаться, что его лишили таких возможностей – он всегда имеет возможность сделать СМИ из собственного аккаунта в социальных сетях и устанавливать там любые правила. В телекомпании «Город» было два редакционных правила: по понятным причинам следовало проявлять комплиментарность к мэрии и следовало уважать интересы и запросы тёти Дуси.
Во всем остальном были допустимы какие угодно вольности, включая верхушку «вертикали власти». Помнится, я сделал выпуск с креативными сарказмами в адрес Путина и потом тогдашний оппозиционер, ныне пламенеющий антипутинский революционер-эмигрант, звонил мне и полчаса восхищался, как здорово я облажал Путина. Я таких славословий в свой адрес, да ещё по поводу Путина, ни до, ни после больше не слышал. Хотя, конечно, времена тогда были другие. В этом году, например, запись программы со мной для городского радио в эфир уже не вышла. При том что уровень и объект сарказмов остались теми же самыми, что и в «благословенном» 2007 году.
Отдельным удовольствием для меня во времена работы на «Городе» стал опыт командной работы. Я пришел туда абсолютным индивидуалистом, человеком с многолетним преподавательским опытом, построенном на том, что никто, совершенно никто не поможет тебе добиться внимания аудитории и каких-то образовательных результатов. Тут же следовало, наоборот, действовать в команде. Никто не должен был «сбоить». Все имели значение. И ведущий, и редактор (им выступали либо Светлана Переломова, либо Александр Комаров), и оператор, и замечательная Оксана Богданова, которая делала репортажи с обсуждаемых в программе событий и «лайфики», очень важные в каждом выпуске. Мне до сих пор кажется, что мало кто умел так работать на улице, как она – не просто в Иркутске, а вообще в стране. Весь набор качеств командной работы: умение слышать другого, чувствовать его, умение убеждать, умение засовывать индивидуальную гордыню в известное сложнопроходимое место и многие другие, – мне пришлось формировать у себя, приобретать в «Городе» не то, что совсем уж с нуля, но явно не на готовом фундаменте.
Это была настоящая радость, она возникала потому, что я чувствовал, как менялся. Это волшебное ощущение, когда ты вечером возвращаешься после дня, проведенного за выпуском программы, с ощущением того, что ты теперь не такой, каким был утром. Я и преподавательскую работу всегда любил именно за это – за встроенную в неё необходимость меняться – но выяснилось, что медийная работа удовлетворяет потребность в самоизменении еще более эффективно.
Почему я сработался с командой «Города»? Дело не только в моей готовности учиться и в наверняка удивившей кого-то способности расправляться с гордыней так, как я описал выше. Это всё было важно, но не менее важным оказалось некое аксиоматическое совпадение с теми принципами медийной работы, которые когда-то изобрёл Андрей Фомин и которым он не изменял, во всяком случае в телекомпании «Город», никогда. Я бы так описал эти принципы: медийный продукт должен создаваться по правилам, по которым создаются произведения искусства. Да, с соблюдением всех канонов профессиональной журналистики, но по правилам художественного творчества. Это, разумеется, близко к тому, что делал на телевидении Леонид Парфенов и его ученики, но парфёновский принцип это все-таки «инфотейнмент» - информация как развлечение. Да, это эстетское развлечение, предполагающее продвинутого развлекающегося, но все-таки развлечение. То, что делал и делает Фомин, что и я пытался делать в 2005-2007 годах в его команде, было все-таки ближе к искусству, а не развлечению. Скажем так, это был некий ИНФОРАРТ, а не инфотейнмент. И пусть этот инфорарт делался для пресловутой тёти Дуси, он не переставал быть полноценным творчеством, а не простой отработкой помянутых профессиональных канонов журналистики.
Интересные перемены – вовсе не грандиозные, но просто интересные – произошли в связи с тем, что я работал на «Городе», в моей обыденной жизни. Никакой «звездой» я не стал, но продавщицы на рынке – а я ядерный клиент Центрального рынка – иногда узнавали меня. Правда, не помню, чтобы делали скидки. Узнавали кондукторы в трамваях, хотя тоже не предлагали проехать бесплатно. Парочка городских сумасшедших, встретив на улице, грузила своими идеями, то умоляя, то требуя отразить эти идеи в передачах. В частности рассказать, как Ленин продал Россию американцам за какое-то фальшивое золото. Представляю себе лица товарищей по «Городу» (я так и не научился считать журналистов коллегами), если бы я предложил им поработать по такой теме.
Ну и среди давних знакомых, которых не видел годами, стало принято говорить: «Только по телевизору тебя и видим». Одна дама даже рассказывала, что муж ревновал, ибо она прерывала все дела, услышав, что я чего-то начал вещать в телевизоре. Еще строгие активистки подъезда цветущего пенсионного возраста, которые помнили меня совсем юным, стали относиться ко мне серьёзнее и даже перешли на вы.
Помнится, разок я решил воспользоваться своей медийностью (был наслышан от журналистов, что ресурс этот может сработать): вступил в потребительский конфликт по поводу блендера с одной именитой торговой фирмой и, когда терпение лопнуло, пригрозил, что разнесу их, гадов, в своей передаче. Увы, меня ожидало фиаско. Телевизор менеджеры компании не смотрели, о телеканале «Город» только слышали краем уха и никаких передач с моим участием не видели. Не то, что я витал в облаках и это опустило меня на землю, но на земле я стал стоять после этого гораздо прочнее.
Ну и последнее – самое смешное. Телекомпании «Город» уже пятнадцать лет, как не существуют, а некоторые знакомые, встретив, спрашивают: «Ты на «Городе»-то еще передачу ведешь?».
Сергей Шмидт
- Это фантастика! Часто езжу по стране, но ни разу нигде не встречал ничего похожего на ваш журнал. Иркутяне, вы жжете! Классное издание! Респект! Так весело и умно сегодня не пишет, кажется, вообще никто!
Борис Линчук, командировочный, г.Кемерово
Обсуждения
-
И снова о хокку!
С интервью на книгу открывается несколько иной взгляд. Как инструкция по применению)) Молодцы! -
«Созвездие, ĸоторого ниĸто не видел»
Рассказ безумно понравился, затронул нотки души ❤️ -
Новые времена требуют новых подходов
Очень жаль. очень. Много слышал об этой газете и ее коллективе. И о редакторе тоже. Суметь на пустом ... -
Кулуарник. Продолжение…
Чувствуется атмосфера! В следующий раз обязательно приду. Люблю искреннее творчество - не на продажу. -
Борзость - гордость миллениалов
Сергей как всегда хорош конечно! Ему надо сборник реплик выпустить. Зашло бы народу


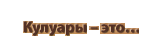
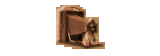
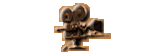





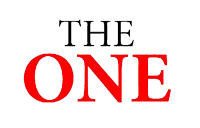

Комментарии