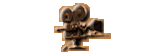История… Набор фактов? Или легенд?
- Подробности
- Создано: 30.07.2020 11:50
- Просмотров: 2271

Современное общество погружено в череду исторических споров. Мы «бодаемся» о революции, о Колчаке, о гражданской войне, о Сталине, об Иване Грозном, о названиях улиц – обо всём. И между всеми. Между странами тоже: Россией и Польшей, Польшей и Украиной, Китаем и Японией, Японией и Южной Кореей. И так далее. Иногда создаётся ощущение, что история поглотила мир, погрузила его в себя. И вот-вот утопит его в бесконечных дискуссиях. Хотя, казалось бы… Есть же факты. Научно установленные исторические факты. Или это не факты?
Традиционный подход (давайте назовем его «наивный позитивизм») основывается на том, что есть историческая истина, исторический факт. Его можно изучить, исследовать, обнаружить, сделать достоянием общественности.
Между тем помимо фактов есть их сознательно искаженный вариант, или результат незнания. Кажется, все просто: отбрасываем искажения – остаются факты. Изучаем их, объясняем – и дело в шляпе. Но на практике оказывается не все так очевидно. Не всё так просто. И здесь мы сталкиваемся с проблемой, как нам относиться к самой истории, в рамках которой мы, собственно, и ориентируемся на поиск фактов и на борьбу с искажениями.
Проблема связана со спецификой исторического знания с точки зрения его взаимодействия с обществом. В современных спорах об истории волей или неволей, осознавая это или нет, спорщики часто обращаются к разным темам, заявленным Фридрихом Ницше в одном из его «Несвоевременных размышлений», а именно в тексте с очень подходящим для нас сегодня названием «О пользе и вреде истории».
Ницше выделяет три типа истории. Монументальная – история о великих деяниях и событиях, меняющих мир. Проблема подобной монументалистики в том, что она предстает как цепь таких событий и жизней, которые имеют мало отношения к реальности.
А ещё философ выделял антикварную историю – ту, что об окружающих нас обычных вещах. Для антикварной истории все равновелико и достойно сохранения и изучения. Однако и у неё имеется проблема. И заключается она в том, что такая история может стать ничем иным, как бесконечным собиранием фактов ради самих фактов.
Ну а третий тип – критическая история, ставящая под сомнение очевидные и доказанные вещи. Она постоянно судит историю и выносит ей приговор. Вот такая необычная история. Не может она без критики и сурового вердикта – почти как некоторые пользователи Фейсбука.
У Ницше есть очень интересное наблюдение, что история может вредить (да еще как вредить!) реальности. В первую очередь потому, что развитие этой реальности невозможно без забывания истории. Если этого забывания не происходит, то возникает дурная бесконечность погружения в историю и обсасывания одних и тех же ничего никому не говорящих фактов и событий.
Плюс историческое чувство, возведенное в абсолют, опасно для иллюзий, которые на самом деле человеку и человечеству… необходимы. Без них невозможно обойтись на длинном пути развития этого самого человечества. Поэтому всякие требования от истории обязательной объективности и научности выглядят достаточно глупо. В таком контексте для Ницше история ближе к искусству, чем к науке. Но все это классика жанра. Или нафталин, как сказал бы иной продвинутый любитель истории.
Современные подходы к истории характеризуются, например, таким явлением, как «новый презентизм». Ряд исследователей отмечают, что место прошлого заменяют «фиктивные реконструкции». Устанавливается «режим настоящего», когда нет прошлого и будущего. Это означает, что:
1. Нет четкого разделения – все единообразно.
2. И прошлое, и будущее – лишены сакральности. Всё фабрикуется в настоящем, ДЛЯ настоящего и обусловлено ТОЛЬКО настоящим.
Раньше в традиционном обществе было так: все ценности сосредоточены в прошлом – происходит сакрализация эпизодов прошлого – развитие мифического времени. Это похоже на то, что Ницше называл «монументальной историей». Затем в эпоху модерна появилась следующая конструкция: прогресс и вера в сплошное счастливое будущее через разрыв с прошлым.
Но в наше время произошла нейтрализация будущего. В результате мы отрезаны и от прошлого, и у нас не осталось ориентиров в будущем. Отсюда замкнутость в настоящем. Поэтому ценится только чувственно переживаемое мгновение. Именно так! Чувственно переживаемое мгновение. Историки, чтобы (конечно) «повыпендриваться», называют это новым «темпоральным режимом». Если раньше – разрыв с прошлым, то теперь в моде, наоборот, сплошная историческая политика. И прошлое при этом возвращается к нам через понятия травмы и ностальгии. Наш «темпоральный режим» – формирование прошлого и будущего по своему подобию как копии настоящего. Своеобразной копии, естественно.
Известный исследователь Франсуа Артог вводит понятие «наследие» и различает понятие «чистое прошлое» и «используемое прошлое». Для него нет легитимного использования прошлого – всегда есть злоупотребление или манипуляция. Поэтому почему бы не объявить культурным наследием всё. И в результате возникает новая конъюнктура прошлого, где развиваются два одновременных процесса: борьба с разрушением памятников культуры и процесс, связанный с признанием исторической вины.
Интересно, что все это происходит под знаком индустрии развлечений и вызовов рынка. Во многом такой темпоральный режим запускает процесс существования феномена тотальной памяти, то есть общества, где разучились забывать (можно сравнить это с существованием файлов в интернете – то есть вы всегда можете актуализировать любую информацию). Но все это парадоксальным образом в итоге… ведет к амнезии и беспамятству.
Очень интересно современные поиски исторической истины преломляются в случае использования прошлого. Историки применяют для этого понятие политики памяти, что в свою очередь делает необходимым выяснение взаимодействия памяти и истории. Можно ли историю рассматривать как выражение такой коллективной памяти? Если да, то кто является носителем этой памяти? Или все-таки память – это исключительно индивидуальная штука, ведь каждый из нас помнит всегда только в одиночку, и сложно представить ситуацию «коллективного припоминания» какого-либо события. Вернее, представить-то можно, но это всегда будет связано с внешним воздействием на ваше индивидуальное воспоминание.
В подобных случаях и возникает проблема конфликта интерпретаций одного и того же события и явления. Один из ученых предложил называть «мнемоническими воинами» тех, кто уверен, что только им одним принадлежит право интерпретации. Можно также выделить «мнемонических плюралистов», выступающих за множественность интерпретаций. Отдельно развивается «мнемоническое отрицание» как идеология прекращения дискуссий о прошлом. И четвертая стратегия ориентирована только на будущее, но через работу с прошлым (например, это ситуация государства, которому нужно определенное видение прошлого, но с целью «отстраивания» своего будущего), ведь определенная интерпретация прошлого это не только манипуляция. Можно представить и ситуацию дебатов, дискуссии, даже спора.
Если в XIX веке историки часто создавали и развивали концепцию единой истории для конкретного государства, то теперь это сложно сделать без обращения к разнообразным историческим конфликтам, что вполне объяснимо и естественно: существуют разные общественные группы, и их память сложно встраивается в бесконфликтную интерпретацию истории. Это часто такая память жертв, требующих своего места в историческом нарративе.
Вот, скажем, праздник 23 февраля. Это одновременно и День защитника Отечества, но также день, когда вспоминают депортацию чеченцев и ингушей во время Великой Отечественной войны. И можно привести ещё массу подобных примеров, но важнее в этом случае понять, что возникает ситуация, когда ни у кого нет монополии на толкование истории. Даже у власти. Хотя по понятным причинам любая власть такую монополию пытается создать и сохранить.
И безусловно заслуживает внимания то, что историю начинают рассказывать и интерпретировать не только историки. Почему заслуживает? Да хотя бы потому, что историки (и не только они) рассказывают историю в определенном стиле независимо от фактического содержания, например как трагедию или комедию. Ну а кроме этого, плюрализация исторического знания, возможность рассказа об истории не только историками приводит к возникновению и развитию различных дискурсов как размышлений о прошлом и как способов их подачи: медийного, академического, повседневного, политико-институционального и так далее. Это, как минимум, делает нашу жизнь веселее, интереснее – да и содержательнее в некотором смысле. Но ведь использование прошлого можно рассматривать и с точки зрения манипуляции им. И манипуляция это часто связана с политикой. Знаменитый немецкий историк XIX века Л. Ранке прямо так и говорил, что история – это политика, опрокинутая в прошлое. В современных исторических исследованиях это получило определение «исторической политики». Сам феномен возникает в Германии при Гельмуте Коле и связан с так называемым «спором историков» об отношении к германскому «проклятому прошлому», в случае Германии – нацистскому. Г. Коль предложил историкам как-то «нормализовать» немецкое прошлое, сделать его «более позитивным». В ответ часть историков заявили, что никакой нормализации не может быть по определению. Но «историческая политика» никуда не исчезла и пышно расцвела на просторах Восточной Европы после крушения коммунизма. Такая политика очень ярко проявилась в недавних спорах России, Польши и прибалтийских стран о начале Второй мировой войны и ответственности за развязывание этого конфликта. Поляки с прибалтами, а с их подачи и Евросоюз, в одной из своих резолюций приравняли СССР к фашистской Германии как равноценных виновников развязывания Второй мировой войны. Естественно, это не могло не вызвать наших ответных действий и обвинений европейских стран в «фальсификации истории». Спор этот далек от завершения и продолжает разворачиваться на наших глазах.
Мощным примером переплетения «исторической политики», памяти о войне и ее встраивании в современную российскую действительность является рождение, распространение и восприятие такого символа, как георгиевская ленточка.
По мнению Алексея Миллера, дореволюционная Георгиевская лента, восстановленная в правах как гвардейская во время Великой Отечественной войны, до революции была принадлежностью наград за солдатскую доблесть – Георгиевского креста и ордена Славы. Она стала символом, который, в отличие от прежних символов Победы (допустим, Красного знамени) не был жестко привязан к коммунистическому прошлому и тем самым «освежал» символику 9 Мая, фокусировал её на воинской доблести, а не на чём-то спорном, и был приемлем для более широкого круга людей, чем традиционные символы, связанные с советским временем. Неслучайно активная критика георгиевской ленточки поначалу исходила именно из коммунистических кругов. Так вот Миллер рассматривает такой символ в контексте исторической политики в России и других постсоветских государствах. И резон очевиден.
Георгиевская ленточка уже предельно политизирована – и её можно считать своего рода маркером определенной идеологической позиции, хотя и маркером своеобразным, потому что в разные временные отрезки она была мишенью для критики поочередно коммунистов, либералов, националистов. Естественно, что ленточка при этом становилась частью совершенно разных политических и идеологических контекстов, превращаясь, с одной стороны, в объект манипуляции, а с другой – в объект потребления (украшения автомобилей и использования в рекламе заведений общепита).
В ходе украинского конфликта для украинских националистов георгиевская ленточка превратилась в символ агрессивного российского государства и его, как они объявили, империалистической политики. Для нас же она сохраняет коннотации доблести, связи с Победой в Великой Отечественной войне.
Другим интересным явлением, связанным с войной, является известная акция «Бессмертный полк». Здесь, кстати, присутствует отсылка к такому современному явлению, как публичная история. В рамках такого подхода подразумевается, что каждый человек компетентен в своей собственной истории, в истории своей семьи, своего поселения и не нуждается при этом в помощи профессиональных историков как экспертов, или, скажем помягче, профессиональная историческая экспертиза для него в этом случае вторична. В случае «Бессмертного полка» идея его проведения возникает сначала на уровне гражданской инициативы томских журналистов, развиваясь как общественное движение. Но затем оно подхватывается государственной властью – и становится частью символического ритуала празднования Дня Победы наряду с военным парадом. Само наименование превращается в бренд и начинает использоваться и для политического пиара, и для разборок с политическими оппонентами. Но все эти события не отменяют и не ставят под сомнение сам факт никем и никак не регламентированной возможности обращения к памяти собственной семьи, родственников как собственной истории и как части общей истории страны.
В заключение можно рассказать один забавный исторический эпизод, связанный с деталью одежды и ее восприятием. Речь пойдет о шотландском килте – знаменитой мужской юбке, которую мы вместе с волынкой и виски воспринимаем как символ Шотландии. Въедливые историки выяснили, что сам килт не сразу стал рассматриваться как аутентичная шотландская одежда. Юбка стала своего рода инновацией, пришедшей на смену запахивавшейся одежде типа большого пледа. А инновация эта была связана с развитием фабрик в Шотландии и попытками привлечь для работы на этих фабриках тех самых «горцев» – горных шотландцев, которых пытались цивилизовать англичане и «равнинные» шотландцы (шотландские «вискокурни», к слову, тоже появились как часть этого процесса «цивилизования»). В восприятии и тех и других «горцы» представали дикими и нецивилизованными «детьми гор». Проблема заключалась в том, что работать на фабрике в традиционной шотландской одежде означало постоянно сталкиваться с угрозой несчастного случая (традиционную одежду могло запросто затянуть в станок). Поэтому владелец одной из фабрик, кстати – англичанин, и предложил как выход из ситуации килт. Затем после ряда интересных исторических событий «спецодежда», придуманная для фабричной работы, работы, которая была предназначена в том числе и для того, чтобы искоренить шотландскую архаику (или с позиций нашего времени – шотландскую аутентичность и идентичность), стала восприниматься уже как символ этой самой искореняемой идентичности и самости. Можно ли считать фейком килт как фирменную шотландскую одежду? Не думаю, но факт конструирования восприятия этой одежды как маркера «шотландскости» налицо.
История забавная наука, которая всегда создает обманчивую видимость легкости и четкости однозначных и безапелляционных суждений по принципу «дважды два четыре», или «Волга впадает в Каспийское море», или «Киев – мать городов русских». Но в результате авторы таких суждений иногда попадают в ситуацию героя Высоцкого, который жаловался, что «ой, где был я вчера, не припомню никак, помню только, что стены с обоями». Вот такие «обои» (или, вспоминая песню, «обеи») и остаются от первоначальной легкости и четкости. Правда, продолжая цитировать классика, можно сказать, что легкость оправдала себя, потому что все-таки «молодая вдова пожалела меня и взяла к себе жить». Тем не менее вдов всегда не хватает на всех.
И если вернуться к вопросу, что такое история: набор фактов или легенд, – и всё-таки попытаться дать однозначный, понятный большинству интересующихся ответ, то можно… просто заменить в этом вопросе местоимение «или» на «и». Но при этом, конечно, обязательно надо будет добавить, что факты часто маскируются под легенды и наоборот. Очень часто. Более того, противостояние фактов и легенд является одним из драйверов развития истории как науки и как способа объяснения нашего мира.
Дмитрий Козлов,
кандидат исторических наук,
директор Межрегионального института общественных наук
jordan Release DatesМНЕ НИКОГДА НЕ НРАВИЛСЯ И НЕ НРАВИТСЯ АНДРЕЙ ФОМИН. НО ЕСЛИ БЕЗ ШУТОК, ХОТЯ БЕЗ ШУТОК НЕ ОБХОДИТСЯ ВСЕ РАВНО: ЕСТЬ КАКИЕ-ТО КОММЕНТАРИИ, ЕСТЬ КАКОЙ-ТО СТЕБ. И ЭТО НИСКОЛЬКО НЕ МЕШАЕТ ПРОНИКАТЬ ВГЛУБЬ "КУЛУАРНЫХ" ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ВОКРУГ ТОГО ИЛИ ИНОГО СОБЫТИЯ, - И, ПОЖАЛУЙ, ЭТО САМАЯ ВАЖНАЯ , ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ВЕЩЬ В "ИРКУТСКИХ КУЛУАРАХ", КАЖДЫЙ ВЫПУСК КОТОРОГО Я С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУ И ЧИТАЮ ОТ КОРКИ ДО КОРКИ.
Леонид Альков, заместитель начальника управления пресс-службы и информации губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области
Обсуждения
-
И снова о хокку!
С интервью на книгу открывается несколько иной взгляд. Как инструкция по применению)) Молодцы! -
«Созвездие, ĸоторого ниĸто не видел»
Рассказ безумно понравился, затронул нотки души ❤️ -
Новые времена требуют новых подходов
Очень жаль. очень. Много слышал об этой газете и ее коллективе. И о редакторе тоже. Суметь на пустом ... -
Кулуарник. Продолжение…
Чувствуется атмосфера! В следующий раз обязательно приду. Люблю искреннее творчество - не на продажу. -
Борзость - гордость миллениалов
Сергей как всегда хорош конечно! Ему надо сборник реплик выпустить. Зашло бы народу