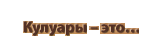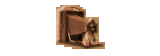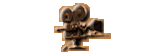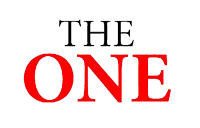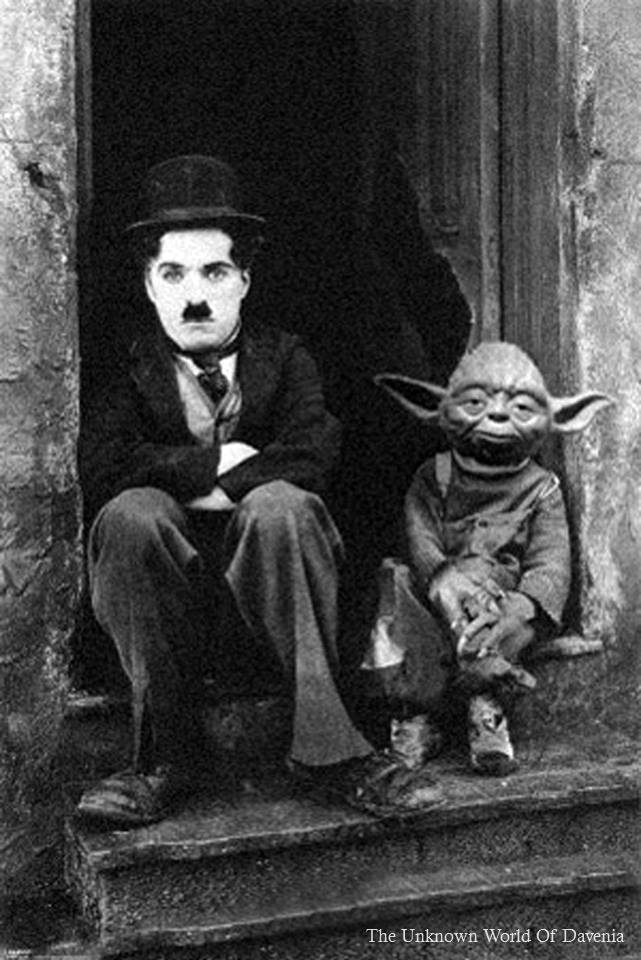Эффект Закожурниковой
- Подробности
- Создано: 12.03.2020 22:27
- Просмотров: 4414
Летом 1919-го огромные массы народа волею обстоятельств перемещались на восток. За короткое время население Иркутска выросло до 300 тысяч человек. Эвакуированные и беженцы очень по-разному проявляли себя в новых обстоятельствах, и сегодня мы представим некоторых из них. Рассказывает наша дежурная по времени Валентина Рекунова.
К началу 1919-го Мария Леонидовна Закожурникова научилась читать военные сводки. То есть теперь она опускала надутые фразы, как то: «на одном из направлений нашими доблестными войсками разбито несколько полков красных», «идут упорные бои, успешные для нас», «наши части гонят перед собой противника». А сразу выцепляла из текста географические названия и, отыскав их на карте, обозначала флажками – красного или белого цвета. В результате становилось видно, чья армия куда движется, наступает или же отступает.
20 июня правительственные войска потеряли Уфу, а 1 июля сдали Пермь и Кунгур. Красные флажочки на карте Марии Леонидовны заострились и нацелились на родной Екатеринбург.
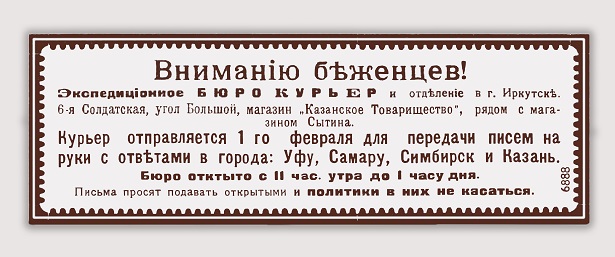
"Новая Сибирь" от 30 января 1919 года
Ещё ничего не подумав и не взглянув на часы (а было уже близко к полуночи), она позвонила Константину Михайловичу Гавриленко. При большевиках в 1918-м его арестовывали, чудом не расстреляли, а потому можно было обойтись без преамбул. Договорились встретиться рано утром, и старый приятель не подвёл – хорошо подготовился к разговору:
— Вы, должно быть, нацелились на Иркутск… Понимаю, понимаю, но, как юрист, более склоняюсь к Чите или Верхнеудинску: присяжных поверенных там поменьше и не такая сильная конкуренция.
Закожурникова подавила улыбку превосходства и сколько можно мягко заметила:
— Сейчас всё так быстро меняется, Константин Михайлович. В недавнюю поездку в Иркутск я вращалась среди судейских и вот что выяснила: служащих по министерству юстиции призывного возраста всех поголовно мобилизуют, останутся только те, кто на высших административных должностях.
—Стало быть, рассчитывают на пополнение из эвакуантов и беженцев…
— Именно! Очень скоро откроются многочисленные вакансии – правда, ненадолго: профуканные правительственными войсками губернии дадут громадный приток населения. Он всё сметёт.
— Но у меня, как у юрисконсульта городской думы, есть неоконченные дела… И если эвакуироваться, то уж вместе с управой!
— И дел не окончите, и не успеете выехать, а уж в другой раз красные не пощадят.
— Вы, Мария Леонидовна, когда именно отправляетесь?
— Собственно, сегодня и отправляюсь. В гимназии, слава Богу, каникулы.
— Что, уже и билеты достали?
— Нет билетов, но я уеду – на барже, на пароходе, на лошади; надо будет, пешком дойду – главное, вперёд и не в тесноте, чтобы не схватить тиф. Я всё оставляю без сожаления, чтобы выжить.
…12 августа 1919-го Константин Михайлович Гавриленко занял должность заведующего отделом призрения Иркутского губернского управления. Заведовать учебно-воспитательной частью пригласили педагога Закожурникову, известную деятельницу по призрению детей в Екатеринбурге. Она же взялась вести курсы по подготовке воспитателей для приютов.
Сначала Мария Леонидовна Закожурникова хотела взять место словесника: её брошюра «Из опыта одной школы» хорошо продавалась в иркутских книжных, и госпожа Некрасова, владелица частной гимназии, сразу предложила работу. Правда, оговорилась:
— Если только нынешний учебный год в самом деле начнётся: почти все школы под военным постоем, и реквизиции продолжаются. Мы, конечно, так просто не сдадимся: родительские комитеты уже закидали Омск телеграммами, вот-вот «проведают» начальника Иркутского военрайона генерала Сычёва; а дальше подключатся директора, городской отдел народного образования – при полной поддержке уполномоченного министерства просвещения. Но у меня нет иллюзий: если вокзал забьют эшелонами раненых, беженскими теплушками, станет не до школ. Так что всё зависит от успехов на фронте.
Закожурникова вспомнила последнюю перестановку флажков на карте и с трудом подавила вздох:
— Тут загадывать не приходится.
— Теперь самое верное где-нибудь в уезде пересидеть: минпрос открывает полный кредит на содержание педагогов тринадцати высших училищ Иркутской губернии. Какие-то из них далеко (в Тутуре, Братске, Анге), но есть и в Оёке, Урике, и что важно: все училища новенькие, «с иголочки», и для земств они покуда игрушка, будут носиться с ними, а значит, и с педагогами. Другое дело, что вам после бурной жизни ( вы ведь и в думе состояли?) деревня очень скоро наскучит.
Выход нашёл давний приятель Константин Михайлович Гавриленко. По приезде из Екатеринбурга в Иркутск он первым делом связался с городским юрисконсультом и попросил о протекции.
— Рекомендовать вас я пока не готов, – отвечал тот уклончиво, – просто потому, что совсем не знаю. Но помочь попробую. Вы ведь не спешите сейчас? Тогда предлагаю составить мне компанию в губернское управление. У меня там одно занудное дело часа на полтора – а вы тем временем оглядитесь. Да непременно потолкайтесь в информбюро – за что-нибудь да зацепитесь.
И ведь зацепился! Оказалось, ещё 8 июля Омским правительством принят закон об органах общественного призрения, и теперь все приюты передаются в ведение государства. Шаг долгожданный, но всё-таки неожиданный для военного времени. Кругом разруха, а правительство берёт на себя содержание призреваемых, мест их обитания. Волонтёров-попечителей сменят штатные служащие отделов призрения, и один претендент уже поджидает управляющего губернией.
— До недавнего времени – директор реального училища. Московского, – любезно уточнил он и отсел, уступая Константину Михайловичу место перед собой.
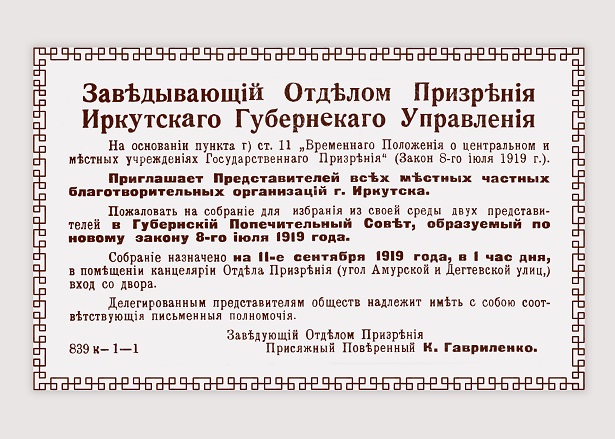
"Наше дело" от 11 сентября 1919
«Волнуется, не готов к разговору, а зря: вид у него вполне респектабельный, чем-то даже напоминает учёного-иностранца», – только-только подумал Гавриленко, как к кабинету управляющего губернией скорым шагом прошёл молодой человек с озабоченным выражением на лице. Кивнув (то ли им, то ли своим мыслям), он деловито осведомился:
— Кто ко мне? Заходите.
Оба ожидавших переглянулись, но не тронулись с места.
— Вы (испытующий взгляд на москвича) по какому вопросу?
— Я по закону о призрении.
— И я по нему же.
— Тогда оба заходите!
Проговорили с полчаса. Москвич представился очень кратко и несколько отстранённо, зато с чувством и в подробностях рассказал об училище, устроенном им на манер английского колледжа. Константин Михайлович невольно очаровался; об Иркутске же заметил сурово: — Мне представляется совершенно ошибочным постановление городского комитета народного образования о ликвидации всех приютских школ и переводе сирот в общие классы. Приютские дети почти всегда отстают в развитии и уже потому нуждаются в специальных методах обучения. Если закрыть специальные школы, то в приютах всё сведётся к кормлению. Для меня, председателя Екатеринбургского попечительства о бедных, крайне странно, что коллеги в Иркутске выносят такие решения.
Москвич заинтересованно поднял брови, а управляющий губернией столь же заинтересованно уточнил:
— Из вашего попечительства ещё кто-нибудь эвакуирован?
— В Иркутске сейчас очень дельный педагог Мария Леонидовна Закожурникова. С мужским умом и характером дама. Хватка бульдожья, при этом уравновешена и обаятельна.
— Приводите. Поговорим. Можно прямо сегодня. Попробуете? Значит, договорились.
Москвича тоже пригласили, и, кстати, он совсем не обиделся, получив место воспитателя.
А екатеринбуржцы подняли паруса. В пустующем Базановском воспитательном доме собрали малолетних беспризорников, детей погибших воинов и воинов-инвалидов. Умственно отсталым требовалось отдельное здание, и они нашли помещение на Казачьей, предложив городской управе немедля освободить его и впредь не сдавать в аренду.
— Скоро же они зарвались, екатеринбургские, – не сдержался городской юрисконсульт, повстречав управляющего губернией. – Мало того, что хлопочут о списании долга с Базановского приюта, так ещё и вздумали что-то нам «запрещать».
— Так и написали? – усмехнулся Павел Дмитриевич Яковлев. – Ну, значит, я в них не ошибся.
— Тогда им нужен общественный противовес!
— Так он и будет – реанимируем здешнее общество защиты детей. У меня и казначей на примете есть – кинопрокатчик Донателло. А в председатели я и сам пойду, – он улыбнулся. – Если выберут.
Иркутские кулуары
В последние годы стало модным выпускать журналы, похожие на комиксы: цветные картинки, мало текста, много тщеславия... Впервые, получив в руки номер «Кулуаров», я получил – хотя бы на время чтения – ощущение правдивости написанного и… порадовался за Иркутск! А самому журналу добавляют уважения со стороны читателя (с моей-то стороны уж точно) такие редкие сегодня остроумие и насмешливая снисходительность главного редактора. Правда, не исключаю, что неглупый кулуарный сарказм не добавляет журналу тиражей. А жаль.
Дмитрий Дорожков, экономист, путешественник, искусствовед, отец 4 детей
Обсуждения
-
И снова о хокку!
С интервью на книгу открывается несколько иной взгляд. Как инструкция по применению)) Молодцы! -
«Созвездие, ĸоторого ниĸто не видел»
Рассказ безумно понравился, затронул нотки души ❤️ -
Новые времена требуют новых подходов
Очень жаль. очень. Много слышал об этой газете и ее коллективе. И о редакторе тоже. Суметь на пустом ... -
Кулуарник. Продолжение…
Чувствуется атмосфера! В следующий раз обязательно приду. Люблю искреннее творчество - не на продажу. -
Борзость - гордость миллениалов
Сергей как всегда хорош конечно! Ему надо сборник реплик выпустить. Зашло бы народу