
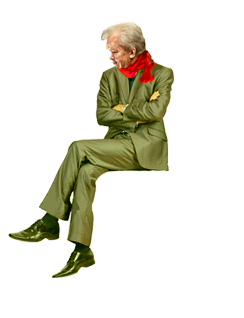

Главное впечатление от недолгого общения с творцом — это его удивительная внутренняя свобода, не имеющая ничего общего с эпатажем или снобизмом. В свои 75 лет он отменно выглядит, смело и тонко мыслит, называет вещи своими именами, игнорируя дежурную политкорректность, свежо и ярко реагирует на знаковые приметы времени и продолжает воевать за высокие гуманистические ценности.
Вопреки правилам игры, пан Кшиштоф сам начал с вопроса, адресованного и мне, и, пожалуй, всем иркутянам:
— Скажите, что у вас тут творится? В центре города я вижу огромную вывеску: «Комсомолл». С двумя «л». Слово «молл» — английское, это торговый центр. Что происходит с русским языком?
— Это новшества нашей буржуазии. Есть еще страшнее — модный магазин «БлагоWest», где «west» означает «запад». Такая вот «благая весть» новейшей русской истории. Лингвисты уже дали название этому явлению — «рунглиш».
— Да, да, да… В начале было Слово… Когда безобразно искажается, калечится язык — это красноречивый признак общего нездоровья.
У Кшиштофа Занусси всегда была пятерка по русскому языку. За это ему даже пеняли антисоветски настроенные соотечественники. Говорили: «Ты не настоящий поляк. У польского патриота по русскому должна быть тройка». Это ничуть не смущало известного диссидента. В своих фильмах он проявил себя и как истинный сын своего народа, и как гражданин мира, и как посланец духовной отчизны, где не признается «пятая графа». Многие свои картины Занусси снимал в сотрудничестве с профессионалами Германии, Италии, Франции, России, Украины, других стран. Он ставит свои спектакли в самых разных уголках планеты. В России он давно не гость. Преподает на Высших курсах режиссуры и сценарного мастерства в Москве, почетный доктор ВГИКа.
— Мне близок и симпатичен Иркутск, — продолжает мой собеседник. — И прежде всего потому, что здесь родились и окрепли такие взаимоотношения русских и поляков, каких больше нет нигде, ни в одной другой географической точке. Это потому, что здесь жили в основном ссыльные, которые понимали, что все они — жертвы деспотизма. Это объединяло и польских повстанцев, которые стремились освободиться от русской оккупации, и декабристов, боровшихся с самодержавием. На этом фоне здесь и возникли взаимопонимание, и сотрудничество, и любовь друг к другу, свободные от национальных претензий и ксенофобии.
— Вы выступаете против национализма?
— Разумеется. Национализм ничего общего не имеет с патриотизмом. Он происходит не от любви к родине, а, скорее, от национальных комплексов или неврозов. Так же, как религиозный фундаментализм — от недостатка веры. Где есть ограниченность, косность, где нет перспективы вечности — там тут как тут религиозный фанатик. По-настоящему духовные люди от этого далеки.
— Вы рассказывали, что ваш дед когда-то буквально пешком пришел в Европу из Сибири. Так что вы тоже сибиряк.
— Да, семейная память хранит такой факт. Сибирь — поразительная земля с удивительными людьми. Она всегда была островом свободы, вольного духа. Дальше Сибири ссылать было уже некуда, поэтому люди здесь были отважны, инициативны, ценили свое человеческое достоинство. И этот дух свободомыслия и свободолюбия важно не растерять, не утратить. Вот почему меня так встревожил ваш «Комсомолл» — помесь коммунистической ностальгии с раболепием перед Западом. Это печалит. Как и памятник Ленину в самом сердце города.
— Но ведь это дань исторической памяти, необходимое проявление толерантности.
— Ничего подобного. Это не толерантность. Это принципиально иное. Нежелание или неспособность проанализировать ошибки прошлого, осмыслить их, чтобы не повторять в будущем, а не твердить упрямо, что все было так, как надо. Это очень опасно. Поэтому меня раздражают памятники Ленину на центральных улицах городов России. Терпеть памятники человеку, по милости которого вы так отстали, — это инертность, своего рода политический инфантилизм. Ленину место в музее. Надо идти вперед, а для этого нужно решительно освободиться от роковых заблуждений. Пока Россия еще не распрощалась со страшными годами коммунизма.
— Как вам кажется, когда это случится? Может быть, должны вымереть все, рожденные в СССР, подобно тому, как евреи, родившиеся в египетском рабстве, не вошли в обетованную землю?
— Да, они бродили в пустыне 40 лет, пока не выросло новое, не знавшее плети поколение. Но, я думаю, вам нужно осознанно ускорять этот процесс, расправить плечи, наконец дышать полной грудью, а не оправдывать вчерашний день тоталитаризма. И не впасть в другую крайность, не скатиться до общества потребления, в котором обитают бездумные зомби.
— Не вступить в «комсомолл»?
— Именно, именно… Самое страшное сегодня — потерять идентификацию. Как для страны, так и для отдельного человека. А это, к сожалению, происходит, я это вижу везде, не только в России. Люди все больше лишаются свободы. И происходит это как-то незаметно для них самих. Человека зомбируют СМИ, реклама, ему навязываются стандарты моды, образа жизни. Его нанимают большие корпорации и начинают форматировать под свои стандарты. Он должен одеваться так, как принято в корпорации, отдыхать и развлекаться, как там заведено, рассказывать анекдоты, которые будут там восприняты. И вот уже нет человека, нет индивидуальности, а только член корпорации, винтик в системе. Это серьезная проблема современности. Самое удручающее, что люди, особенно молодые, работают ради денег, а не ради самореализации. Они не имеют отваги, они встревожены, бесправны перед работодателем, не чувствуют себя хозяевами своей жизни. Это ужас. Ведь мы так боролись за свободу! И теперь, когда она наконец вернулась, наши дети так дешево ее продают.
— Наверное, это происходит, когда нет духовного стержня. Сейчас в России мы переживаем возврат к духовным ценностям. Порой это носит нарочитый официальный характер, тоже становится неким общественным стандартом. Вы долгие годы были культурным куратором Ватикана, близко дружили с прежним Папой Иоанном Павлом. Какие истины вы вынесли из общения в клерикальных кругах?
— Прежде всего понял, какая это огромная опасность.
— Опасность?
— Да-да. Кто может отвести человека от Бога легче, чем духовенство? Стоит кому-то из святых отцов повести себя неблаговидно — и готово подозрение, что Бога нет. Я с детства усвоил урок отца, который мне говорил: «Не смотри на священника. Даже если он сластолюбец, это не значит, что заповедей не существует!» И, когда я вижу священников, которые борются за власть, которым важно показываться «у престола», участвовать в политических играх, я просто вспоминаю этот отеческий наказ. Представители Бога — не сам Бог. Если человек в духовном поиске, он не обращает внимания на плотские слабости официальных священнослужителей. Но для этого надо быть подготовленным. Кого-то нечистота духовенства может разочаровать в самой идее духовности.
— Ваше творческое кинообъединение называется «Тор». Это как-то связано со скандинавскими мифами?
— Совсем нет. Тор по-польски значит «траектория». Это путь, который к чему-то ведет.
— К чему же? К чему вы хотите нас привести?
— Ну, это надо смотреть мои фильмы, там все сказано. Я хочу, чтобы человек шел путем восхождения. Цель жизни — это культура. Культура не в смысле искусства. Я имею в виду культуру чувств, культуру взаимоотношений. Где человек умеет подняться до ограничения самого себя, когда он в силах отдать жизнь для другого человека. Когда живет для других. Вот вершина, к которой нужно стремиться. Преодолевая ошибки и моменты падения. Это и есть самое высокое искусство.
— Героиня вашего изумительного фильма «Прикосновение руки» сказала: «Важно постараться прожить нашу жизнь красиво и мужественно. И так честно, как только сможем. Это и есть настоящее искусство». Другой ваш персонаж уверен, что «единственный наш долг — облегчать проникновение добра в этот мир».
— Это так. И ваш фестиваль «В кругу семьи» как раз служит этой святой истине. Вот почему для меня ценно и интересно принимать в нем живое участие.
— Пан Кшиштоф, однажды вы всерьез пошутили, что надо мало читать, мало смотреть и мало кушать. Кушать мало, но хорошо. И читать, смотреть только самое лучшее, только шедевры. Так, по вашему мнению, человек воспитывает аристократизм духа. Что вы посоветуете нам включить в свой культурный «рацион»?
— Мною поздно открыт венгерский писатель мировой величины Имре Морай. Он был эмигрантом, и у нас его не переводили. Мы узнали о нем и его творчестве только с падением коммунизма. В России он еще не известен. Как и итальянский прозаик Томазо ди Лампедуза, по роману которого Лукино Висконти создал фильм «Леопард». Новые кинофильмы я смотрю редко. Очень интересной показалась последняя картина Андрея Звягинцева «Левиафан». Всегда жду новых работ Алексея Германа — сына. Есть не кассовое, не попсовое искусство, облегчающее проникновение в нас добра. Надо напитываться им, усваивать его уроки.
Радикальные высказывания пана Кшиштофа не должны вводить нас в заблуждение. Этот принципиальный человек в то же время сердечен, щедр и любит «ближних», даже очень далеких и мало знакомых. Со своими итальянскими родственниками, владельцами знаменитого бренда бытовой техники, он поддерживает отношения, хотя и не чувствует особенной душевной близости. Зато артистов, которых выбирает для спектаклей, часто приглашает пожить у себя в большом доме под Варшавой. Театр, по мнению режиссера, дело семейное, камерное. Тут важно побыть рядом, поразмышлять, иногда и помолчать всем вместе, проникнуться тканью пьесы. Так когда-то делал Мольер, репетируя у собственного очага. Мэтр порой отправляет исполнителей в Париж, дает им ключи от своей тамошней квартиры. Так он поступает, когда ему нужно, чтобы они впитали удивительную атмосферу французской столицы, «надышались» ее ароматом. Однажды Занусси принял у себя целый курс студентов Богдана Ступки из Киева, чтобы провести с ними серию мастер-классов. Знаменитый кинематографист не согласен с поговоркой «Мой дом — моя крепость». Его мать всегда говорила, что человек не имеет права строить жилище только для себя, чтобы в нем отгородиться от других. В доме должно быть место для друзей, единомышленников, для всех, кто тебе чем-то интересен. Именно такой дом и создал Кшиштоф Занусси, с большой усадебной территорией, с зимним садом, где стоит звучный рояль, с множеством комнат, украшенных картинами, с дверями, всегда распахнутыми для гостей. Здесь нашли кров и заботу девять собак и три кошки, подобранные на улице и взятые из приюта. Хозяин называет их «печалью мира».
Беспородные любимцы вольно чувствуют себя и в доме, и на территории. Все заботы о хозяйстве, хлопоты по приему частых посетителей взяла на себя супруга пана Кшиштофа — художница Эльжбета Грохольски, настоящая графиня, чей род восходит еще к Рюриковичам. Как многие жены больших талантов, она посвящает себя интересам и затеям своего избранника. Муж шутит, что его Эльжбета — как декабристка. Еще одна условная перекличка с сибирской темой.
На фестивале в Иркутске, куда художник приезжает не в первый раз, он не выглядит чужаком. И не только из-за пятерки по русскому. Наверное, человек такого масштаба духовных исканий и прозрений, которого достиг Занусси в своем искусстве «морального беспокойства», в любой точке мира, где происходит что-то разумное, доброе, вечное, будет своим: понятным и близким.
— Чего вы пожелаете нам, иркутянам, жителям Приангарья?
— Побольше солнца. Пусть оно светит вам щедрее. И больше надежды, энтузиазма. Особенно молодежи. Пусть молодые верят, что могут что-то сделать в этом мире. И прежде всего с собой.
Марина Рыбак
- Это фантастика! Часто езжу по стране, но ни разу нигде не встречал ничего похожего на ваш журнал. Иркутяне, вы жжете! Классное издание! Респект! Так весело и умно сегодня не пишет, кажется, вообще никто!
Борис Линчук, командировочный, г.Кемерово