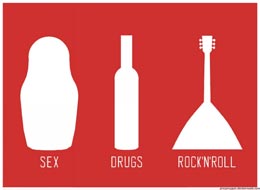
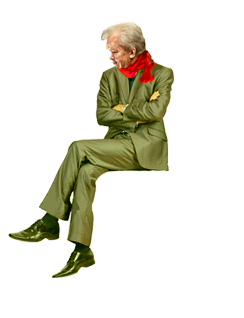
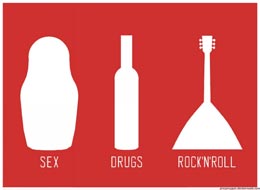
«Чем больше я читаю современных российских книг, тем больше замечаю ошибок/странностей, присущих, как мне кажется, только нашим писателям. На раздумья натолкнула одна очень распиаренная книга, в которой «национальные черты» собраны воедино. Я бы выделила следующие:
1. Путаница с именами
Тут понятно, откуда ноги растут. С западными именами особо не поиграешь: ну, Джон, Джонни... На большее фантазии не хватает. Нашим же авторам есть где разгуляться. Проблема в том, что многие писатели перегинают палку в поисках разнообразия. Так Наталья на протяжении 200 с лишним страниц может отзываться как на Натали, так и на Нату, Наташеньку, Ташку, Тали и т.п.
Читателю сложно уследить за именами героев, которые трансформируются на каждой странице в нечто новое. Клянусь, очень часто бывает, что героиня, заявленная как Светлана, на следующей странице становится Ланой. Пока я судорожно вспоминаю, откуда в квартире Светланы появилась некая Лана, пока до меня доходит, что это одно и то же имя, приходит какой-нибудь гость, который легким движением языка переименовывает Светлану-Лану в Лисицу. И дальше на пяти страницах речь идет о Лисице, которая спустя главу превращается обратно в Светланку.
Ладно бы, речь шла о диалогах. В диалогах как раз позволительны игры с именами. Скажем, я сейчас читаю «Бегущий в лабиринте», где главного героя друзья и недруги именуют и Томми, и Чайником, и шенком, и просто новеньким. Но в тексте герой всегда Томас.
Наши авторы, пишущие от третьего лица, нередко забывают, что только что называли героя или героиню совсем иначе.
Представим, что происходит в книге, где автор постоянно «переназывает» нескольких героев, причем у одного из этих персонажей редкое имя. У-у, это пиши пропало! Читатель просто сходит с ума, пытаясь понять, кто такие Пол и Апполинарий, Рина и Екатерина, Нина и Нинон, Анна и Нютка. Ох, на то, чтобы разобраться в каше из имен, уходит больше времени, чем на то, чтобы вникнуть в сюжет.
2. Красивый стиль
Очень многие российские авторы любят «красивости». Нет, я ничего не имею против книг, в которых каждое слово, каждая метафора настолько изысканны, что хочется распечатать и в рамочку на стену... Как пример — та же Марина Степнова. Но большинство просто перебарщивают, заводя читателя в такой метафористический лабиринт, из которого невозможно выбраться. Сразу вспоминается Остап Бендер, который отпустил супруге Альхена такой длиннющий и двусмысленный комплимент, что даже не смог довести его до конца.
Самое странное, что «красивости» впихиваются во всех персонажей без исключения. Так профессор и бомж разговаривают совершенно одинаково. Если закрыть авторские ремарки, отличить речь одного от речи другого невозможно.
Западные начинающие авторы часто пишут слишком просто, но, на мой взгляд, лучше проще, чем стараться «покрасивше», но неумело.
3. Национальный характер
Честное слово, про нас — как в том анекдоте: «везет тебе, жена, греби себе и греби, а я думай, как жить дальше!». Мы постоянно думаем, наши герои постоянно думают. К месту и не к месту в книгах встречаются размышления, философские вставки. Вместо того, чтобы просто общаться друг с другом, герои выдвигают целые философские теории, доказывают их, опровергают. Умело поданная философия хороша в классической прозе, но герои, размышляющие о судьбах человечества прямо в момент кровавого сражения с зомби, выглядят, мягко говоря, странно. Герой у российского автора не может просто признаться в любви, пока читатель не пролистает двадцать страниц, на протяжении которых герой вспоминает первую любовь в детском саду и полученную в этой связи психологическую травму, ничего толком не произойдет. Каждый второй герой — сам себе психолог, причем неопытный. Чаще всего подобные философствования не к месту вызывают скуку и желание отложить книгу.
Западные авторы гораздо реже «грешат» философией. Новички понимают, что стоит делать ставку не на стиль, который оттачивается годами и не на псевдо-глубокие размышлизмы, а на крепкий, динамичный сюжет, в котором все эти «но ежели копнуть в противоречивость экзистенциализма как ответа на кризис оптимистического либерализма...» совершенно не к месту.
4. Физиология
Увы, во многих российских книгах потоптались ребята из Камеди Клаба с их шутками ниже пояса. Современный детектив (а мы, кстати, уже обуждали ошибки детективщиков на сайте mi-pishem) обязательно включает в себя животрепещущие физиологические описания и анекдоты: оперативники «жрут бутеры в рыгаловке», описание трупа, по мнению, национальных авторов выглядит нереалистично без фокусировки на спутанных кишках и растекшихся мозгах, а какая-нибудь сцена в туалете непременно должна присутствовать в мало-мальски приличной книге. Почему нельзя обойтись без всей этой физиологии? Почему герои обязательно должны, прости Лев Николаевич, пукать, напиваться, блевать, долго и в анатомических подробностях заниматься сексом? Этому где-то учат?:) В том же «Бегущем в лабиринте» — раз уж я его читаю — при всей непритязательности книги и жанра не описывается в деталях и нюансах, как именно ужасные существа в лабиринте убили изгнанного из приюта героя. Просто описывается, как на следующее после изгнания утро жители приюта нашли возле дверей ошейник, который по традицию надевают на изгнанника.
«— Я видел только три Изгнания, Томми. И все в точности такие же мерзкие, как вчерашнее. Но каждый грёбаный раз гриверы оставляют нам на пороге ошейник. Вот от чего рехнуться можно!»
И все, никаких тебе пятен крови, прикрученных к ошейнику клочьев волос или отрубленных рук. Просто ошейник.
Просто — не значит плохо».
daria_mare
"ИНТЕРЕСНЫЙ У ВАС ЖУРНАЛ, ЕСТЬ ЧТО ОБСУЖДАТЬ, О ЧЕМ РАЗГОВАРИВАТЬ, МОЖНО ТАКЖЕ И СЛОВО БОЖИЕ ДО ЛЮДЕЙ ДОНЕСТИ."
Протоиерей Вячеслав Пушкарёв