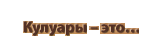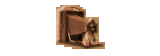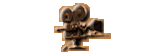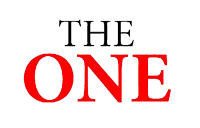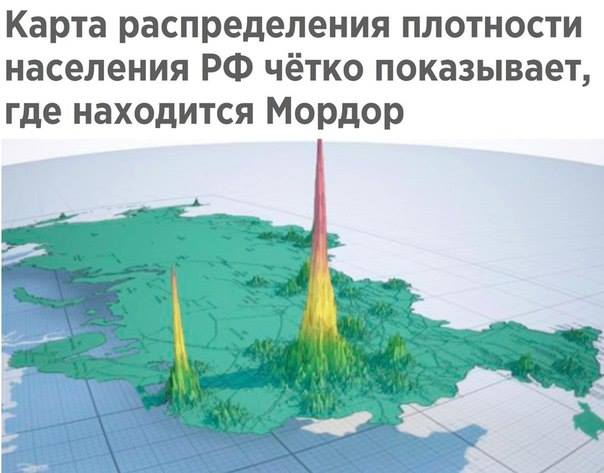Олег Пущенко дарит вторую жизнь утраченным архитектурным шедеврам
- Подробности
- Создано: 14.05.2015 07:03
- Просмотров: 1832
В маленькой комнате, которую Олег оккупировал для своих увлеченных стараний, практически отвоевав ее у остального семейства, тесно от «строительного» мусора, пахнет клеем, красками, паяльным дымком и всякой технологической всячиной. Сюда любят пробираться дети. Интересно, над чем колдует отец, старшим порой разрешается оказывать посильную помощь.
Маленькому Артемке еще рано, уж очень тонкая и кропотливая работа у зодчего, пока младшему сынишке можно только тихонько наблюдать, не приставая с лишними расспросами. Иногда заглядывает жена, приносит чай с лимоном. Бывает, что Светлана чувствует: сейчас лучше не отвлекать, забрать малыша, оставить художника в покое. Впрочем, какой тут покой, глаза у мужа горят, из груди вырываются тяжелые вздохи, только что дым от него не идет.
Понятно, что творческий пыл разгорелся, какая-то задача срочно требует решения, идет мучительный поиск, сражение с фактурой, охота за ускользающей гармонией. Зато когда Олег выходит, уставший, но ублаготворенный, к столу с проснувшимся после долгих часов аппетитом, верная подруга знает – все получилось, будущая конструкция удается. А уж когда глава семейства приглашает всех полюбоваться очередным шедевром, водруженным на диванную спинку, даже Ирине не верится, что это рукотворное чудо возникло рядом с ней, поднялось и расцвело во время бессонных ночей неизлечимого чудака, с которым связала ее судьба.

Фото из личного архива Олега Пущенко
Олег Пущенко, иркутянин, 48 лет. Окончил профтехучилище по специальности электромонтажник. В годы перестройки работал челноком, телохранителем, но по-настоящему нашел себя в создании пластических копий исторических объектов. Его талантливыми руками воссоздан макет первого российского магистрального тепловоза, который изобрел уроженец Иркутской губернии, инженер, ученый-электротехник Яков Геккель.
Им мастерски выполнены игрушечные копии православных иркутских церквей, многие из которых были уничтожены. Большинство из них приобретены частными коллекционерами, некоторые увезены за пределы Иркутской области. Их автор – постоянный участник региональных выставок творчества инвалидов «И невозможное возможно», впечатляющими образцами его домашнего зодчества любовались тысячи посетителей выставочных площадок Сибэкспоцентра, Дома Рогаля, областной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского. Вот и я познакомилась с этим самородком в Молчановке, где в пасхальный день, 3 апреля 2015 года, состоялась презентация его художественных макетов «Иркутские храмы». Олег – инвалид, у него эмфизема легких.

Фото из личного архива Олега Пущенко
Правдоподобные копии
На выставке было многолюдно. Посетители с интересом разглядывали уменьшенные копии Иерусалимского храма и часовни Иверской Божьей Матери в Иркутске. Олег Пущенко на экране показал и прокомментировал процесс изготовления архитектурных миниатюр от замысла до воплощения.
- Вот фото Иерусалимского храма на горе возле центрального парка культуры и отдыха. Это снимок 1870 года, таким здание было в то время, два боковых купола пристроили позднее, а здесь купол только один, центральный. Теперь храм отреставрировали, притвор увеличили за счет колонн, архитектура изменилась. Мой макет воспроизводит первоначальный вид строения. На фото рядом еще расположено Иерусалимское кладбище. Я в детстве жил неподалеку, на Партизанской улице. С братом часто наведывался за парковую ограду, тогда там еще лежали ряды могил. Мы почему-то облюбовали два надгробия, подметали их, клали одуванчики на плиты. В общем, место это для меня было родное. Макет я создавал по старой фотографии, чертежи делал сам, высчитывал пропорции, корректировал по ходу дела. Если в расчетах напартачить, конструкция не будет устойчивой, она сама вынудит исправить ошибку.
Олег создает макет, как настоящее здание, только в уменьшенном масштабе. У него есть фундамент, все опоры, перекрытия, балки. Все собирается по кусочкам, по слоям. В качестве материала используется пластик для рекламных конструкций разной миллиметровой толщины, комбинируется, подгоняется, окрашивается. Паперть храма, чтобы выглядела как настоящий серый камень, специально продавливалась острыми камушками. Внутри Иерусалимского храма – колонны, арки, алтарный комплекс с иконами.
Многие творения Олега Пущенко куплены обеспеченными людьми. Иные украшают фешенебельные дома, коттеджи. Часовня Спасителя приобретена областным архивом, первое лето стояла у входа в здание на всеобщее обозрение, радовала прохожих своей красотой. В макете спрятан блок питания, верхние окошки и фонари вокруг часовни приветливо загораются, будто внутри и впрямь идет служба. До революции эта часовня стояла на пересечении Большой и Ивановской улиц, которые теперь носят названия Карла Маркса и Пролетарской. Воинствующий атеизм большевиков приговорил ее к уничтожению в 30-е годы. Как и многие другие ритуальные объекты областного центра.
- Когда воссоздаешь уже не существующие архитектурные объекты, много возникает трудностей, - делится ваятель. – Приходится полагаться на старые фотографии, где не все хорошо видно, на пространственную логику. Чертежи и внутренние схемы редко удается раздобыть. Часть наших архивов увезли в Санкт-Петербург, оттуда уже ничего не выманишь. Я веду поиск в областном архиве, в центре сохранения наследия, очень благодарен за доступ к домашним фотоальбомам, где порой встречаются просто уникальные снимки. Иногда энтузиасты поднимают такие старые фотографии и альбомы даже с помоек, кто-то умудряется выкидывать, не понимая, насколько они бесценны.

Фото из личного архива Олега Пущенко
Эволюция мальчишеской забавы
Призвание воскрешать в современном материале в уменьшенном масштабе старинную красоту было Олегу Пущенко, по-видимому, на роду написано. Мальчишкой он ни от чего не получал такого удовольствия, как от собирания моделек самолетиков, сырье для которых привозила ему мама. Она работала директором вагона-ресторана и всякий раз покупала сыну наборы для любимой забавы в Москве, в Риге, в других столицах, куда попадала с дальними рейсами.
- Первый самолетик мы клеили вместе с отчимом Петровичем, это был немецкий пассажирский лайнер. Петрович покрасил его под серебро, я до сих пор помню волшебный запах этой краски. Эта крылатая модель, еще совсем свеженькая, с этим вот техническим ароматом доставила мне, пацану, настоящее счастье!
Потом были другие самолетики, маленькие танки и пушки. Была даже попытка сделать панораму сражения Великой Отечественной, силенок и опыта не хватило.
Взрослым Олег вспомнил свое детское увлечение, когда один из друзей рассказал, что его сыну, студенту высшей школы милиции, предстоит изготовить макет Большого театра в разрезе, на котором курсанты будут обучаться захвату террористических групп. Тогда, после трагедии «Норд-Оста», актуально было отрабатывать алгоритмы действий оперативников в массовых культурных заведениях. Пущенко решил взяться за воплощение главного музыкального театра страны. Товарищи помогли скачать из Интернета программу «Большой», с помощью которой можно виртуально путешествовать по всему зданию, где-то разжились чертежами. Единственное, чего не хватало нашему зодчему, это бокового вида фронтона. Но Олег не сдался в своих поисках. Нужный ракурс оказался ближе, чем можно было ожидать: на сторублевой купюре! Этим популярным изображением и воспользовался. Модель получилась – любо-дорого глядеть. На ней обучался не один поток будущих стражей порядка.
Похожий демонстрационный макет выполнил наш герой для ГУФСИНа, чтоб отрабатывать предотвращение побегов заключенных из тюрьмы. В карликовом каземате только светодиодов было полторы тысячи, освещались все проходы, все здания, включалась дюжина контактных палладиевых люстр. Внутри блоки питания стояли, система охлаждения была предусмотрена, пульт управления. Этот грандиозный проект автор делал с командой помощников.
По заказу музея ВСЖД Олег Пущенко выполнил макет первого российского магистрального тепловоза, который сконструировал наш земляк Яков Геккель. Пластиковый двойник тепловоза получился роскошный. Внутри дизельные генераторы, кабина машиниста. Но заказчики отказались его выкупить, сославшись на смену руководства в музее. Нет худа без добра: красавец-тепловоз радует малышню в детском саду, куда ходит Артем Пущенко, такой диковины точно ни в одном детском учреждении больше нет. Получается, как рассуждает автор, не в убыток себе смастерил ее, если детям служит. А затраты, что ж, переживутся как-нибудь.
Олег получает маленькую пенсию по инвалидности, в свое время он сильно обжег легкие пластмассовыми парами. Макетомания требует жертв. Теперь, правда, у мастера есть специальная вытяжка. Своим редким умением он заработал солидные стопы почетных грамот и дипломов с выставок народного творчества инвалидов, а вот денежная отдача приходит с трудом. Взяли бы его на работу в музей железнодорожники – весь подвижной состав изваял бы как живой, и бегать бы научил, и гудеть. Не торопятся. Музей Рогаля хотел было выделить Олегу мастерскую и открыть под его началом кружок моделирования для юных техников, да ведь нельзя, учительский профстандарт не велит, у Пущенко нет педагогического образования. Так и творит редкостный талант в режиме свободного дрейфа, почти на подпольном положении. Воссоздает по исчезающим документальным следам прекрасные исторические постройки старого Иркутска, в первую очередь храмы, варварски разрушенные по приказу ликвидационной комиссии большевиков. Список выполненных в пластике святынь пополняется не быстро, на самую «легкую» копию уходит не меньше трех месяцев усердной, почти ювелирной работы.
Иверская часовня, представленная на выставке в Молчановке, располагалась рядышком с областным судом, который и при царе находился там же, где и теперь, напротив цирка. На старой фотографии нарядная часовенка красуется рядом с храмом Фемиды, а позднее на ее месте был небольшой скверик с бюстом военачальника Белобородова.
Иннокентьевская часовня стояла на сквере Кирова, в близком соседстве с Польским костелом. Олег собрал ее по фотографии, не было никаких других исходных данных. Вокруг сделал газон. Купол в угоду частному заказчику покрасил голубой краской, хотя канонически навершия православных церквей прежде окрашивались только в зеленый. Эту красивую молельню хорошо помнят старожилы областного центра. В царские времена ее называли Кандальной. Мимо по Дворянской улице, которую мы знаем как Рабочую, вели по этапу каторжан, громко гремевших кандалами.
Одним из самых трудоемких оказался частный заказ репликанта Цминды – грузинского кафедрального собора в Тбилиси. Выполнялся по фото. Чтобы имитировать шероховатости и трещинки древних каменных стен, пришлось делать двухслойное покрытие конфликтующими красками, легкая эрозия от их соприкосновения создает эффект векового прошлого. Весь макет нашпигован кабель-каналами, окна на разных этажах загораются разноцветными лампочками. Верхушка и крест покрыты настоящим сусальным золотом, что тоже технологически весьма канительно. И все же игра стоила свеч – церковь получилась просто сказочная.
Сейчас мастер трудится над миниатюрой Ильинской церкви в Анге. Схем и чертежей, как обычно, не найти. Все пропорции приходится выстраивать из визуальных представлений. Первая попытка провалилась, ошибся в соответствиях. Пришлось расширять межоконные проемы, корректировать другие тонкости. Конечно, все исправления будут хорошо замаскированы, на готовом макете творческих метаний видно быть не должно.

Остров зодческих сокровищ
В планах самородка – утраченная Благовещенская церковь на углу Большой и Благовещенской - ныне Карла Маркса и Володарского. Еще – строения архитектурного комплекса Вознесенского монастыря, о котором Олег уже собрал обширное досье, предвкушая грандиозный массив работы. Лютеранская кирха, уступившая участок городского центра под монумент Ленина, лагерная Петропавловская церковь 28-го Сибирского стрелкового полка, что была в районе Базарной площади Глазковской слободы. Еще очень хочется сделать макет старинного Иркутского вокзала, и почему-то вдохновляет прежний, советский вид кинотеатра «Баргузин», который Пущенко задумал воспроизвести со всеми внутренними подробностями, даже с фонтаном, где в детстве рыбки плескались. Вот только рыбок настоящих не обещает, а все остальное – было бы желание!
- Я мечтаю одно поразительное деревянное здание в Иркутске увековечить, - рассказывает Олег. - Это здание входило в комплекс благотворительных воспитательных заведений купца Ивана Базанова. А в советское время здесь долго был детский садик, в который меня водили. Это на улице Горького, прежней Харлампиевской, в тылу Харлампиевской церкви, вы наверняка этот домик хорошо знаете. Он очень красивый, настоящий обломок старины. Я помню, как ни странно, все внутреннее расположение комнат, коридоров, лестниц. И удивительный запах с кухни, так и не знаю, чего именно, но такой вкусный, что я его ни с чем не могу сравнить. Мне этот дом кровно дорог. Я уже примеривался, кружил вокруг, фотографировал. Может, и отважусь на такой подвиг - в дереве сделать макет. Только очень уж работа будет щепетильная. Хотелось бы бревенчатый сруб воссоздать, а сейчас он обшит, надо как-то самому эту симфонию из бревен вычислить, это настоящая головоломка. Но, волков бояться…
Олегу жалко, что столько выразительных старых построек гибнет у нас на глазах, время их не щадит, поэтому он пытается сберечь их хотя бы в макетном формате. Но одного энтузиазма художника для этого недостаточно. Олег готов делать архитектурные копии старых зданий в медном исполнении. К примеру, сверкающий медный Казанский собор будет выглядеть грандиозно и впечатляюще. Но для этого надо делать ванну, погружать туда пластиковый макет и методом электролиза наносить медное покрытие. Понадобятся химикаты, графитовая смазка, неизбежны сильные испарения. Словом, деньги нужны, без них никуда.
Зачем ему это все? Мастер хочет спасти красоту, погубленную невежеством, злобой и равнодушием. Если воссоздать безвозвратно потерянное в ландшафте наших улиц и площадей невозможно, то пусть оно оживет хотя бы в сувенирном, игрушечном формате. Ведь не случайно в Санкт-Петербурге в Александровском парке открыли мини-город, где люди прогуливаются среди уменьшенных достопримечательностей Северной столицы. Здесь и Ростральные колонны, и неизменный Исаакий, и Спас на Крови. Почему бы в Иркутске не сделать что-то подобное? У нас такая богатая историко-архитектурная биография. Многие страницы из нее насильственно вырваны. Так было бы святым делом дать им пластическую реинкарнацию. Если сделать только артефакты областного центра, и то экспонатов набралось бы на целый музей макетов. А прибавить памятники других городов и сел Приангарья - это же целый остров сокровищ мог бы всплыть! Этакий заповедник красы и гордости веков. Прекрасная идея, благородная и согревающая. Но, увы, лишенная хищнической привлекательности, а значит, вряд ли осуществимая в наши дни.
Такие чудаки, как Олег Пущенко, которые в эпоху тотального меркантилизма в ущерб здоровью продолжают жить и дышать по зову сердца, творить и отдаваться любимому делу, служить сохранению исторической памяти, должны нами цениться как редкие самородки. Им насущно требуются нормальные условия для созидания прекрасного, чтобы их бесценный дар не канул в небытие, а нашел последователей. Пока таких условий нет. Вокруг чудака и мечтателя социальный вакуум. Наше постмодернистское общество, одержимое хищническим накопительством, остается глухо к духовному трепету художника, который по крупицам собирает остатки прекрасного мира. Ранешнего, теплого и человечного, обитатели которого держались возвышенной истины, что не хлебом единым жив человек.
2018 Cheap Air Jordan 1 Retro High OG Pine Green/Sail-Black To Buy Марина Рыбак
Источник: http://baikal.mk.ru
В последние годы стало модным выпускать журналы, похожие на комиксы: цветные картинки, мало текста, много тщеславия... Впервые, получив в руки номер «Кулуаров», я получил – хотя бы на время чтения – ощущение правдивости написанного и… порадовался за Иркутск! А самому журналу добавляют уважения со стороны читателя (с моей-то стороны уж точно) такие редкие сегодня остроумие и насмешливая снисходительность главного редактора. Правда, не исключаю, что неглупый кулуарный сарказм не добавляет журналу тиражей. А жаль.
Дмитрий Дорожков, экономист, путешественник, искусствовед, отец 4 детей
Обсуждения
-
Новые времена требуют новых подходов
Очень жаль. очень. Много слышал об этой газете и ее коллективе. И о редакторе тоже. Суметь на пустом ... -
Кулуарник. Продолжение…
Чувствуется атмосфера! В следующий раз обязательно приду. Люблю искреннее творчество - не на продажу. -
Борзость - гордость миллениалов
Сергей как всегда хорош конечно! Ему надо сборник реплик выпустить. Зашло бы народу -
Как я осталась без Тотального диктанта
Статья понравилась. Автор на частной проблеме (как ТД изжил себя и стал просто обыкновенной галочкой ... -
Искусство любви
Ну потому что он её рисовал